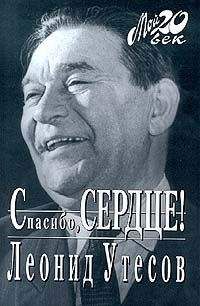Григорий Свирский - Люба – Любовь… или нескончаемый «Норд-Ост»
На следующее утро узнала, что в то же закрытое отделение института Обуха привезли троих мужчин, которые делали точь в точь, что и я: синтезировали хлорэтилмеркаптан без противогаза – трех здоровущих парней – Мережко, Бынина, Попова….К моему появлению выжил только Попов.
У меня в ушах до сих пор звучит спокойные голоса врачей: «Время экспозиции Попова – двадцать пять минут. Время экспозиции Рябовой – сорок минут… У Попова при меньшем времени экспозиции роговица глаза пострадала значительно сильнее. У Рябовой все, как у мышей, только печень не реагирует…»
Женский голос спрашивает, какой вес Попова? 70 килограмм? В американском справочнике указывается летальная доза иприта… Правда, только для кошки. Приводится в миллиграммах на килограмм живого веса…А каков вес твоей кошечки? – И оба эскулапа хихикнули…
Но этот разговор уже самого конца моей первой недели у Обуха.
А в первый день нянечка подвела меня к железной кровати, сказала: – Вот твоя койка! – и неслышно исчезла. Облезлая кровать, в которую я проваливаюсь, словно в трюм, похожа на маленькое старое суденышко. Оно потрескивает, жалобно скрипит и нестерпимо укачивает. Застиранная, пахнущая хлоркой простыня, напоминает парус.
Небо за окном, сотканное, казалось, из таких же подсиненных парусов, единственное, что связывет меня с той, оставшейся позади жизнью.
Я качаюсь на своем скрипучем кораблике, и мне кажется, что все это сон, который исчезнет, улетит, забудется. Но, с усилием открыв глаза, вижу свои руки – красное мессиво, покрытое бледно-желтыми пузырями. «Жаба! Жаба!»– испуганно звучит во мне собственный голос. Боль охватывает лицо и руки раскаленным обручем, разливается по всему телу, отдаваясь в затылке.
– Это анастезирующий раствор, – слышу торопливый голос сестры, кладущей возле меня железное корытце – Руки – сюда, в лоток с прохладной жидкостью.
– А лицо?!
Она будто не слышит, ставит на тумбочку какую-то кашу.
– Захочешь есть, скажешь соседкам, покормят.
– А лицо?! – У меня горит лицо?!
Сестра тихо-исчезает…
Во рту привкус тошноты. Кажется, я не ела почти двое суток.
– Пить, только пить….– Малейшее движение ртом невыносимо.
Раствор в лотке нагревается. Огненные тиски становятся все сильнее. Я кусаю губы, чтобы не реветь. Но слезы текут, пытаюсь взять платок, чтоб вытереть эту соленую разъедающую жидкость. И от режущей тело невыносимой боли теряю сознание.
Очнулась, когда меня встряхнули, растолкали.
Подплыл белый халат. За ним – второй.
– Ну, как, больная?
– Плохо! Нестерпимо плохо! Дайте мне анальгин, пирамидон, что-нибудь…
– Нельзя!
– Любое обезболивающее!
– Не положено. Есть раствор, этого достаточно.
– Раствор не помогает, а голову в лоток не положишь.
– Надо потерпеть!
– Господи, как вытерпеть, когда тебя будто перепиливают тупой пилой. Дайте хоть анальгин!
– Повторяю, анальгетики даются только по специальному разрешению.
– Позвольте, вы же врач! Кто лучше врача знает, как ослабить боль?
Белые халаты бесшумно исчезают. Я ощущаю себя жалким беспомощным животным. Скотиной на бойне… Мне не терпится в туалет, я хочу высморкаться. Что я могу сделать без рук?
Стонать, плакать, биться головой о железную кровать? Бессмысленно. Приближаются еще два белых халата. Узнаю сестру, которая приносила лоток. И вторая, видно, сестра. Когда-то в России они назывались сестрами милосердия.
Они шепчут.
– Не скандальте, девушка! Это вам не поможет.
И вдруг я ощущаю всем своим нутром, что никто из них ничего для меня не сделает. Я еще не знала почему, но безошибочный инстинкт живого существа подсказывал, что всем им на меня наплевать. Не может же быть, что им запрещено помогать? В больнице? Почему?!
– Покажите мне, где туалет, – прошу. – Дойти смогу сама, без вас, ноги у меня в порядке…
В отупении и отчаянии бреду в хлорированном мареве больничного коридора.
Пол шатается под ногами, покачиваясь плывут серо-зеленые стены. Господи, не упасть бы! Добравшись до своей кровати, снова забираюсь под обжигающе – холодную простыню.
– Давайте я вас укрою.– Мягкий гортанный голос тих, и совсем не похож на те, которые слышу с самого утра. Разжав веки, вижу, что в палате остались одни больные. Судя по тоненькой со странно широкими плечами спортсмена фигуре, затянутой больничным халатом, и толстой косе, закрученной на темени, передо мной женщина лет двадцати восьми-тридцати. На голове просто копна огненно-рыжих волос. Тонкое интеллигентное лицо в очках с простой оправой, самодельно, видно, уже здесь, в больнице, «починенной» нитками. Кожа белейшая, которая бывает только у огненно рыжих. Однако от корней волос почти до самой шеи покрыто коркой темно-коричневых струпьев.
– Ваше одеяло, девочка, свернуто, в ногах у вас лежит.– Она укутывает меня заботливо, как ребенка, засовывая края байки под матрас. – Вас прямо трясет от озноба… Хотите, я еще свое одеяло дам? – Добрые синие глаза смотрят на меня из-под струпьев. – Пить, да?
Я киваю. Никогда еще простая вода не казалась мне такой вкусной.
– Меня зовут Тоня, я из НИОПИКА, знаете?
– Знаю НИИ около Маяковки. Красители и прочее… Из какой лаборатории?
– Я в закрытой работала. В филиале на Долгопрудной.
– Понятно. А это что за больница?
– Официально – это клиника Академии медицинских наук. – Голос ее становится унылым. – Не рядовая больничка, а большой научно – исследовательский институт, известный, как сказал мой шеф, во все мире. Сами видите, докторов целое толпище. Это витрина. Но, как говорится, одно в витрине, а другое в магазине.
– А что с вами, Тоня?
Два синих озерца смотрят на меня с недоумением и болью.
– Представления не имею! Шеф просил сделать перегонку. Бросил небрежно: это наша ВТОРАЯ тема. Дал вещество, а сам куда-то ушел. Когда несколько капель упало в приемнике, у меня вся комната поплыла перед глазами. Теперь врачи говорят «профессиональное», а объяснять ничего не объясняют. Да и лечить-то не лечат, только анализы делают… Говорят, лежите спокойно, отдыхайте… У меня с кровью плохо, а лицо – это так, попутное.
– Вы москвичка, Тоня? К вам кто-то из семьи пробился?
– Муж был, да сплыл… Одна, как перст…
– Меня зовут Люба! Люба Рябова. Когда мои пробьются, они и вас не оставят…
Тоня грустно усмехнулась
– А с вами-то что, Люба?
– Перегоняла какой-то хлорэтилмеркаптан. На химфаке. ВТОРАЯ ТЕМА, сказал шеф.
– …И вытяжной шкаф сломался? – Почему-то в ее голосе почудилась ирония. –…Как догадалась? Здесь кинешь палкой в собаку, попадешь в химика. И у каждого второго вентиляция сломалась.
Больные зашевелились, очевидно, это причина была всеобщей.
Люба вздохнула грустно и как-то непривычно тяжело. – Ничего не понимаю: работала вчера, а ожоги только сегодня появились…
– А кроме кожи, Люба, что у тебя?
– Я здорова, только пузыри болят зверски.
– И больше ничего?… – с недоверием переспросила Тоня. – Редкая удача!.
– Как вы сказали? Хлорэтилмеркаптан?.. Я тоже с химфака, – Совсем молоденькая девчушка в беленьких домашних тапочках на тонких ножках, по виду, еще школьница, приблизилась. – Я Галя Лысенко-Птаха с третьего курса…– Заметила мою улыбку, добавила: – У нас полгорода Лысенко. Паспортистки изощрились, моей маме прилепили «Лысенко-стАра» а мне –«Птаху». Я было восстала, но зря: теперь меня тут никто не спрашивает, не внучка ли я этого аспида Трофима Лысенко? А теперь мы с аспидом, к счастью, даже не однофамильцы… Из общежития я многих знаю. На каком этаже вы живете?
– Я москвичка, у вас бывала раза два. В гостях.
– А кто у вас практикум по органике ведет?
– Акимова Лидия Николаевна.
– Значит, программа у нас одинаковая. Меркаптаны уже проходили, как же.
Сейчас посмотрим в учебнике, у меня Чичибабин в тумбочке, сюда прямо с кафедры привезли. У Чичибабина есть все. Он подробник.
Минут через пять она развела руками. У Чичибабина об этом веществе ни слова. Подумать только! У Чичибабина!..
Тоня поглядела на нее, на Любу, свесившую ноги с кровати, улыбнулась грустно:
– Воробушки вы наши печальные. Прямо от титьки – в мясорубку… Дайте-ка полистать классика. В нем есть все, но почему-то нет ничего, на чем мы все подорвались.. ВТОРАЯ тема. И у Любы Рябовой, и у меня… Видно, что-либо трижды секретное. Заказ министерства обороны…
Классик ведь не имел советского «допуска-пропуска»… Мы – то – закрытая лаборатория. Сплошь тайны. Но, извините – Университет? Он открыт всем ветрам… И никто ничего не знает?
– Да хватит вам, честное слово! – Резко обрывает ее женщина с соседней койки. Отнюдь не старая женщина, эта соседка: глаза острые, молодые, а голова до последнего волоска седая. «Наша Лукерья!» сказала Тоня. Соседка не отвечала даже на вопросы сестер, и до сих пор лежала с невозмутимым видом.