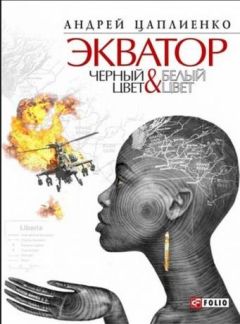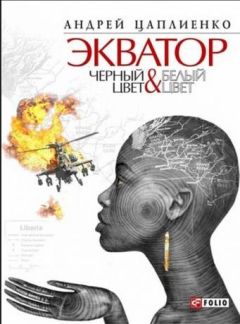Амели Нотомб - Биография голода
Вода хранила вкус каменного ложа, она была так хороша, что я готова была кричать от счастья, но рот был все время занят. От ледяного холода ломило горло и выступали слезы на глазах.
Мешали только паломники, которым я то и дело вынуждена была уступать черпак. Я злилась, что меня прерывают, а главное, что прерывают ради такой малости. Каждый подставлял черпак под струю, отпивал глоток, а остальное выливал обратно. И это называется питьем?! Некоторые вообще выливали воду на землю – какое оскорбление!
Для них этот глоток воды из источника был всего лишь очистительным обрядом, после которого они шли молиться в синтоистский храм. А для меня храмом был сам источник, пить из него значило молиться, приобщаться святыне. Как же можно довольствоваться одним глотком святости, когда вон ее сколько? Из всех красот природы вода была самой чудесной. Ее можно было впивать не только глазами, и ее от этого не убывало. Я вливала в себя литры, а ее сколько было, столько и оставалось.
Вода утоляла, но не пресекала жажду и не иссякала сама. Она давала мне представление об истинной бесконечности, которая была не идеей или отвлеченным понятием, а чем-то вполне вещественным.
Нисиё-сан молилась довольно вяло. Я попросила ее рассказать мне о синтоизме. Подумав, она решила не вдаваться в долгие объяснения и ответила:
– Суть в том, что все прекрасное – это Бог.
Превосходно! Я удивлялась только ее малому рвению. Впоследствии я узнала, что самым прекрасным в этой религии считается император, довольно противный тип, и поняла, почему моя няня не проявляла особого пыла. Но тогда я этого еще не знала и впитала этот догмат так же, как впитывала священную влагу.
Все впитанное очень скоро изливалось наружу: придя домой, я бежала в уборную и сама источала струи воды.
Мои родители были воспитаны в католической вере и потеряли ее, когда я родилась. Было бы заманчиво и жутко видеть причинно-следственную связь между этими событиями, но, увы, мое появление на свет не сыграло никакой роли в их духовной утрате: ее обусловило то, что они открыли для себя Японию.
С детства им твердили, что лучшая и единственно правильная религия – это христианство, причем именно в католической его разновидности. Вколачивали это в голову как непреложную истину. Но, приехав в Кансай,[7] они столкнулись с утонченной культурой, не имеющей к христианству никакого отношения, и решили, что им всю жизнь лгали о религии, а решив так, выплеснули вместе с водой младенца, так что в них не осталось и следа веры.
Правда, при них осталось прекрасное знание Библии, и они уснащали свою речь примерами из нее, упоминая при всяком удобном случае то чудесный улов, то жену Потифара, то лепту вдовицы или умножение хлебов.
Как же могла не привлекать меня эта призрачная, но постоянно присутствующая книга! Тем более что чтение ее сопровождалось страхом, как бы меня не застигли за этим занятием. «Как! Ты читаешь Евангелие, когда у тебя есть „Тентен“!» «Тентена» я читала с удовольствием, а Библию с щекочущим нервы трепетом.
Этот трепет мне нравился и напоминал чувство, которое возникало во мне каждый раз, когда я шла знакомым путем к неизведанному, туда, где гулкий, замогильный голос произносил: «Я живу в тебе, помни это!», и у меня от этого дрожали веки широко открытых глаз. В одном я была уверена: что этот говорящий мрак мне не чужд. Если это Бог, значит, Он помещается во мне, если не Бог, значит, что-то, что создано мною и заменяет мне Бога. А в общем, теологические тонкости мало меня волновали: так или иначе, но именно от Бога происходила сила, заставлявшая меня жадно пить из храмового источника, томиться желанием, многократно утоляемым, доходящим до нескончаемого экстаза и все же неудовлетворимым, чудесным образом возрастающим по мере насыщения.
Я верила в Бога, частью которого была сама, причем ни с кем об этом не говорила, поскольку хорошо понимала, что в нашем доме эта тема не в чести. То была тайная вера, вера без слов, некая смесь протохристианства с синтоизмом.
Моя жизнь не задалась с самого начала. Я знала, что из Японии мне придется уехать и это обернется крахом. Уже в четыре года я вышла из возраста святой невинности и поняла, что я не божество, хоть Нисиё-сан и уверяла меня в обратном. Если в глубине души у меня еще теплилась уверенность в своей божественной природе, то каждый день в ётиэне и в других местах, где мне приходилось бывать, я получала доказательства того, что в глазах окружающих ничем не отличаюсь от самых обыкновенных людей. Чем больше проходило времени, тем яснее мне становилось, что мои первые шаги не сулят больших успехов.
У меня не было друзей среди одуванчиков, да я и не хотела ни с кем из них дружить. После истории с гимном на меня в группе смотрели косо, а мне на это было наплевать.
К сожалению, убегать я больше не могла и кисла на переменах со всеми вместе. Если замечала свободные качели, спешила влезть на них и уж никому не уступала эту завидную позицию.
Однажды, прохлаждаясь на своем любимом снаряде, я вдруг заметила, что враги окружили меня со всех сторон. Тут были не только мои одноклассники: дети со всей школы, все обитатели нашего квартала в возрасте от трех до шести лет обступили меня и смотрели холодно и неумолимо. Качели, как назло, остановились.
Вся орава набросилась на меня. Сопротивляться было бесполезно, я сдалась, как рок-звезда на растерзание поклонников. Меня повалили на землю, чьи-то руки сорвали с меня одежду. Все происходило в полной тишине. Голую, меня внимательно и все так же молча осмотрели.
Тут с воплем подоспела капральша, увидела, в каком я виде, и накинулась на детей:
– Зачем вы это сделали?
– Хотели посмотреть, правда она вся белая или нет, – ответил кто-то за всех.
Разъяренная капральша кричала, что это очень дурно, что они опозорили свою страну, и все такое прочее. Потом наклонилась надо мной и велела им отдать мне одежду. Дети безропотно повиновались: один принес носок, другая юбку, и так далее, им явно не хотелось расставаться с трофеями, но дисциплина есть дисциплина. Воспитательница надевала на меня предмет за предметом по мере поступления: я была голой и в одном носке, потом голой, в носке и юбке, и так далее, пока не восстановился исходный вид.
Затем дети получили приказ извиниться передо мной и по-военному, на одной ноте, произнесли хором «гомен насаи». Я выслушала их с полным равнодушием.
– Тебе плохо? – спросила меня капральша.
– Нет, – надменно ответила я.
– Может, хочешь пойти домой?
На это я охотно согласилась. Вызвали по телефону маму, и она забрала меня.
Дома и мама, и Нисиё-сан восхищались тем, как стойко я перенесла оскорбление: шок оказался не слишком сильным. Я же смутно догадывалась: будь обидчики постарше, я бы совсем иначе отнеслась к их выходке. А так – меня раздели ровесники, обычная потасовка, ничего страшного.
Несчастье обрушилось на меня в пять лет. Угроза, вот уже два года висевшая над нашими головами, вдруг обрела реальность: мы должны переезжать из Японии в Китай.
И хотя я давно знала, что такой поворот событий неминуем, но оказалась не готова к нему. Да и как можно приготовиться к концу света? Расстаться с Нисиё-сан, со всем здешним совершенством, уехать неведомо куда – от одной этой мысли меня мутило.
Последние дни я прожила с ощущением, что наступает вселенский хаос. Страна, которая без малого полвека со страхом ждала предсказанного страшного землетрясения, не замечала близости катастрофы, меж тем почва под ногами уже дрожала из-за того, что я должна была ее покинуть. Я пребывала в полнейшем смятении. Наконец настала роковая минута: к дому подъехал автомобиль, чтобы увезти нас в аэропорт. Нисиё-сан упала на колени прямо на улице, обняла меня и прижала к сердцу, как родное дитя.
И вот дверца захлопнулась, я сижу в машине и вижу, как Нисиё-сан, не поднимаясь с колен, приникла головой к земле. Она оставалась в такой позе до тех пор, пока мы могли ее видеть. А потом исчезла навсегда.
Так закончилось время моего божественного существования.
Я была так огорчена разлукой со своей японской мамой, что не заметила, как самолет оторвался от родной земли и взмыл в небо.
Воздушная карета миновала Японское море, Южную Корею, Желтое море и приземлилась на чужбине – в Китае.
Для меня весь мир, за исключением Страны Восходящего Солнца, был чужбиной. Но для КНР 1972 года такое определение было и правда самым подходящим.
Этот мир тотального террора и бдительного надзора был совершенно чужим. И хотя мне не пришлось испытать на себе ужасов завершавшейся «культурной революции», хотя по малолетству я почти не соприкасалась с реальностью и не жила, в отличие от родителей, с чувством постоянного омерзения, Пекин все равно представлялся мне этаким глазом циклона.