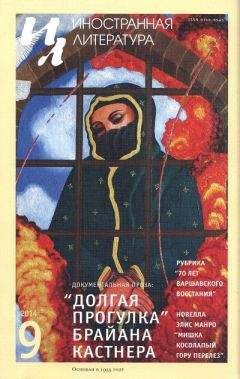Андре Бринк - Мгновенье на ветру
Закутавшись в вышитое одеяло, бабушка тихо рассказывает о Паданге, о зеленых зарослях гибискуса, сплошь покрытого красными цветами, о дрожащих листьях недотроги…
Она ест свой ужин, сидя на козлах фургона, он остался возле костра.
Поев, она ставит тарелку и поднимает голову.
— Принеси мне воды помыться, — приказывает она. За ее спиной под парусиновой крышей фургона висит на короткой цепи горящая лампа.
Он не шевельнулся.
— Ты что, не слыхал?
— Носите себе воду сами.
Даже при свете костра он видит, как она побледнела.
— Как ты смеешь так разговаривать со мной, раб! — в гневе кричит она.
— Я не раб.
— Что же ты тогда здесь делаешь?
— Я думал, вы нуждаетесь в помощи.
— Я?! Какая наглость!
— А почему, собственно? — Он неторопливо встает.
— Убирайся вон! — кричит она, срываясь на истерику. — Я прекрасно обойдусь без тебя!
Бледная, стиснув зубы, она слезает с фургона на землю и, подойдя к костру, берет кипящий на огне чайник, а он стоит и смотрит на нее. Потом она возвращается к фургону и, обернувшись к нему, злобно бросает:
— Места своего не знаешь, видно, не научили.
Но он все молчит.
— Подожди: вот муж вернется…
Он лениво поворачивается к ней спиной и начинает класть в костер поленья на ночь. Когда от них повалил дым, он отходит чуть в сторону и видит на парусиновой стенке фургона ее тень. Наверное, она возле самой лампы, потому что тень ее уродливо велика, но все равно он не может отвести от нее глаз. Никогда еще он не был к ней так близко. Она раздевается. Высвободив руки и плечи из лифа пышного платья, она наклоняется над корытом и начинает мыться. Он видит сбоку ее грудь, и теперь это не просто выпуклость, скрытая под рюшами и кружевами, но две отдельные полусферы.
Ты белая, и рядом твоя черная тень. Пять лет мне приходилось разговаривать с самим собой или с кочующими готтентотами воинственных племен среди бескрайних просторов и безграничной свободы, которую я выбрал по собственной воле. Выбрал в ту ночь, когда бежал с острова и, чудом не утонув, поднялся, шатаясь, на берег; надо мной стоял узкий серп месяца, я был наг и дрожал на ветру от холода, но я знал: это путь к свободе.
Где-то там она ждет меня, все время удаляясь. За какими горами я ее встречу, за какой рекой? Где юг отпускает человека, где перестает тянуть его, точно на волнах прилива, к дому, к матери, к детству? И вот ты стоишь в своем фургоне, я вижу на стене твою тень. А ты и не знаешь, что я на тебя смотрю, а может быть, ты так меня презираешь, что тебе все равно? Ты расчесываешь волосы, твои руки поднимаются, опускаются. Если ты слегка повернешься, я увижу твои острые соски. Ты, самый страшный из наложенных на меня запретов, самое недостижимое из всех живых существ — белая женщина.
Их окружает хлипкая изгородь загона, дикие смоковницы. А за ними — бесконечность, они обречены, приговорены ей.
Когда лампа в фургоне гаснет и теплый запах фитиля рассеивается, в темноте появляются дикие звери. Костер прогорел и теперь слабо тлеет. Прошлой ночью, когда ревел ветер и бушевала гроза, хищники таились вдали. Но сегодня они опять осмелели и подали голос, сначала далеко, потом все ближе, ближе и наконец подошли к самому лагерю. Хохотали шакалы, лаяли дикие собаки, раздавался вой, страшнее которого она ничего на свете не слышала, от которого кровь у нее леденела в жилах, — вой гиен. Вой этот начинался низким глухим рычаньем и поднимался до пронзительного визга, разрывающего темноту. Луны все еще не было.
Эрик Алексис Ларсон знал, когда месяц должен родиться, когда луна начнет убывать, когда совсем исчезнет… Эрик Алексис Ларсон знал все.
Может быть, звери сейчас обгладывают его кости? Или готовятся напасть на лагерь? Растопчут никчемную изгородь, перепрыгнут через костер, может быть, огонь их даже привлекает? Гиппопотамы вылезают ночью из воды и идут на огонь. В тот вечер на берегу реки, которую ты нанес на свою карту и которой дал название, мы играли за нашим походным столиком в шахматы, возле нас горела лампа, и вдруг появилась эта громадина. Ты схватил лампу и бегом вокруг лагеря, гиппопотам за тобой, наконец готтентоты стали кричать тебе, чтобы ты бросил лампу. Ты швырнул ее, а сам кинулся прочь, гиппопотам бросился на лампу, растоптал ее и ушел себе как ни в чем не бывало. Ты потом записал в своем дневнике: «Оказывается, есть животные, которых свет не отпугивает, а привлекает, таковы, например, бегемоты», — только и всего.
Поднявшись с постели, она подползает к краю фургона и приподнимает уголок парусины. В лицо ей дохнула прохлада ночи, — в фургоне так душно. Привыкнув к темноте, она разглядела возле костра его темную фигуру. Позвать бы его, но что она ему скажет, о чем спросит? Голос ей не повинуется, точно чьи-то руки сдавили горло. Вон он сидит, но ночь так темна, что она не знает даже, смотрит он на нее или нет. Он что же, собирается просидеть так до рассвета? Зачем? Она не хочет, чтобы он был здесь. Он — угроза ее независимости, ее молчанию, угроза ей самой. Но если бы его сейчас не было, она бы наверняка умерла от страха. Может быть, дать ему ружье? Или пусть просто так сидит у костра, в дорогой одежде ее мужа, которая висит на его тощих плечах, как на вешалке? Черная тень в темноте… Элизабет снова завязывает полог фургона. Руки ее дрожат, ладони влажные. Он там, у костра. Она натягивает вышитую простыню до подбородка и зажмуривается. Ей снова представляется та шелковица, истекающие соком спелые красные ягоды… Господи, неужто гиены будут сегодня выть всю ночь напролет? Зрелище не из приятных, сказал тогда он. И лицо ее горит, как в тот день среди веток шелковицы.
Он возвращается в лагерь под дикими смоковницами первым, вынырнув из зарослей глубокой узкой долины, которую зажали с двух сторон зеленовато-бурые склоны холмов. Жара еще не спала, а на нем к тому же это непривычное платье, он ходил в нем весь день чуть не с рассвета. В мешке из оленьей шкуры, что висит у него за спиной, он принес несколько светлых крапчатых яиц и, проходя мимо костра, осторожно достает их и складывает в ямку. Потом, подняв голову, видит ее. Она идет между деревьями, высокая, тонкая; широкая юбка развевается вокруг длинных ног, ко лбу и щекам прилипли мокрые пряди темных волос. Когда она подходит ближе, он замечает, что она тяжело дышит и очень бледна, вокруг губ синева, на лице капельки пота. Она не видит его, проходит, чуть не задев, к фургону, хватается руками за крыло и падает головой на локти. Рукава ее платья засучены, в солнечных бликах золотится пушок на ее руках.
Она замечает его, лишь когда он наконец поднимается на ноги, и в испуге вздрагивает, но, узнав его, снова роняет голову на руки.
— Принеси… принеси мне… — начинает она, но голос ее прерывается, дыхание перехватывает, она стискивает зубы. Не досказав своей просьбы, она идет за фургон, зачерпывает воды, наливает в чашку и возвращается. Теперь она садится на траву, привалившись спиной к переднему колесу. Он стоит и наблюдает за ней равнодушно, даже с легким злорадством.
— Не выносите солнца? — наконец спрашивает он.
— Что за глупости, — с досадой говорит она. — Сейчас пройдет. Я просто… — По ее телу словно проходит судорога. Она поспешно встает и бежит за фургон, он с изумлением слышит, что ее начинает рвать. Его охватывают угрызения совести. Чтобы не стоять праздно, он принимается рубить дрова для костра, но тут же бросает топор. Наконец она возвращается.
— Заболели? — спрашивает он.
— Нет. — Она садится и снова прислоняется к колесу. Вынимает из волос шпильки, и они мягкой темной волной рассыпаются у нее по плечам.
— Неправда, вам плохо, — не отступает он.
— Я жду ребенка. — Она вдруг вспыхивает гневом и выпрямляется. — Он не имеет права бросать меня одну. Он никогда ни о ком не думал, только о себе. — Но она так устала, что даже на гнев у нее не осталось сил. — Что, ничего не нашел? — спрашивает она, помолчав.
— Нет. Осмотрел шаг за шагом долину и отроги, но ливень смыл все следы.
Еще рано, но он все-таки решает разжечь костер и вскипятить чайник.
— В другое время я бы на солнце и внимания не обратила, — говорит она жалобным голосом, который противен ей самой. — Просто сейчас я…
Он слушает молча.
— Когда я гуляла в Капстаде, я проходила пешком по многу миль, — продолжает она. — Тайком от матери. Мать никогда не отпускала меня без портшеза. Однажды я даже поднялась на Гору, на самую вершину. — Она умолкает и ждет, чтоб он отозвался на ее слова. — На Львином хребте часто бывала и, конечно, на Голове Льва. Но на Гору взбиралась всего один раз. Забавно, правда, — снизу она кажется такой ровной, гладкой, иди себе, точно по улице, а начнешь подниматься, так сплошные скалы и ущелья и непролазные заросли. Там есть кусты с очень смешными плодами, вроде маленькой сосновой шишки, если сожмешь их в руке, они начинают шевелиться и щекотать ладонь. — Она все еще бледна, но лицо понемногу оживает. — Когда мужчины ходили на Гору, они обязательно приносили с собой эти шишки и просили девиц закрыть глаза и подставить руку. Какой визг поднимался, хихиканье, сколько притворства, до сих пор вспоминать тошно.