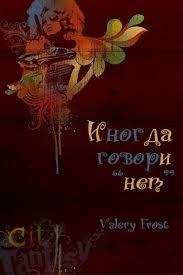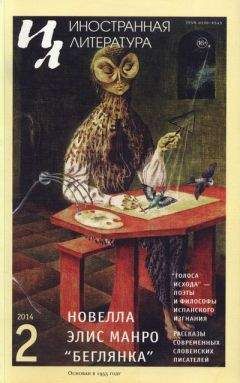Зигфрид Ленц - Рассказы
Правда, я обратил внимание на то, что ей захотелось еще раз рассказать о причинах развода, который состоялся с полного согласия обеих сторон. Если я правильно ее понял, то оба, мол, не смогли привыкнуть к постоянной необходимости оправдываться друг перед другом: слишком долго они не женились и жили самостоятельно, он — редактор, она — переводчица. Никакие обоюдные договоренности не помогали, необходимость оправдываться настолько омрачала их вечера, что после пяти лет совместной жизни они решили развестись. Зобры никогда не говорил мне прежде об этой причине, никогда прежде не замечал я в нем чего-то особенного в те годы, в которые ему якобы приходилось за все оправдываться — за разговорчивость и за молчаливость, за каждое «да» и за каждое «нет»; обычно люди смиряются с подобным укладом вещей, а вот он не смог с ним свыкнуться. Но какие сделать выводы из этого открытия, я пока не понял.
На мою просьбу отправить телеграмму в Стокгольм старик объяснил, стараясь говорить простейшими шведскими фразами, что местное почтовое отделение находится далеко и он не может позволить кому-либо из домашних отлучиться на долгое время, так как все нужны для работы по хозяйству. Врача, который также жил неблизко, звать, считал он, не нужно, ибо, собственнолично осмотрев меня, убедился, что мне уже лучше. Без особого сочувствия старик сообщил, что моя машина, ударившись о корневища, в конце концов свалилась на дно оврага; она сильно покорежена и уже ни на что не годится, а мои пожитки, те из них, которые удалось собрать в папоротнике и кустарнике, сложены на копешке сена.
Несколько раз я пытался разговорить ребят, особенно когда они приносили мне еду, весьма, между прочим, простую, однако ничего у меня не получилось, поскольку они либо сразу же убегали прочь, либо сидели на табуретке безмолвными стражами. В возникшей однажды неловкости повинен я сам, ибо попросил мальчугана дать карандаш и бумагу, а он мигом доложил о моей просьбе старику, который появился на пороге и безо всякого раздражения, тем более гнева, совершенно ровным голосом спросил: неужели у нас дома все вот так же злоупотребляют гостеприимством. Долгое время я пытался определить, чем это тут пахнет, особенно вечерами, когда запах становился еще более густым и пряным; наконец я догадался, что за дух доносился до меня через щели в стенах — это пахло тмином. Проверить себя я не смог, так как приподнимался на лежанке лишь с большим трудом, а при попытке следующей ночью встать на ноги чуть совсем не свалился. В том, что меня ищут повсеместно и методически, я не сомневался.
На летучке не было сказано, откуда редактор отдела внутренней политики узнал, что Зобры продал перед отъездом в Стокгольм доставшийся ему от родителей дом. При этом Зобры довольствовался подозрительно низкой ценой, да и чересчур торопился с продажей, поэтому, говорят, согласился с первым же предложением. Не успели мы толком переварить эту информацию, как внутриполитический редактор удивил нас дополнением: Зобры, дескать, взял деньги наличными, однако счета в нашем национальном банке не открыл. В наступившем вслед за этим молчании каждому из нас до боли отчетливо вспомнился наш новый стокгольмский корреспондент. Я взглянул через стол на главного редактора, который, свесив сигарету на подбородок, скреб ногтями подпалину на столешнице. Он даже не поднял головы, когда начальник отдела информации, каждодневно учивший нас правилам корректного цитирования, счел необходимым сгустить упавшую на Зобры тень; тихим голосом он доложил собравшимся о том, что человек, облеченный нашим доверием и командированный в Стокгольм, был замечен в архиве в тот самый день, когда там пропали отклоненные редакцией материалы, поэтому не исключено появление этих материалов в каком-либо шведском издании.
Главный редактор поднялся с места, намереваясь покинуть конференц-зал, но тут зазвонил телефон — разговор из Стокгольма. Это была наша секретарша, которая растерянно спросила, не следует ли ей, по совету полиции, дать заявление на розыск Зобры как пропавшего без вести. Не раздумывая, шеф ответил, что в данном случае никаких заявлений о розыске не нужно, зато, предупредил он секретаршу, возможно, будет подготовлено заявление для печати, которое ей придется передать газетам по соответствующему распоряжению. Потом шеф жестом позвал меня следовать за ним, но не успел я дойти до двери, как новым жестом он показал мне, что я ему уже не нужен, в чем я узрел дурной признак — он ждал худшего, но смирился с судьбой.
Мне удалось обмануть хозяев насчет самочувствия тем, что на их глазах я изобразил несколько безуспешных попыток встать с лежанки. Видимо, я хорошо разыграл полный упадок сил, во всяком случае дверь хотя и была на ночь закрыта, но не заперта на ключ. Стопроцентными доказательствами я, конечно, не располагал — ведь постоянное присутствие «стража» могло оказаться и проявлением заботы, — однако тем не менее у меня окрепло ощущение того, что меня держали в плену. Задумав побег, я решил позднее найти способ, чтобы отблагодарить моих спасителей, — например, послать им какие-либо подарки с нарочным, который на обратном пути прихватил бы мои вещи.
В рассветных сумерках, когда туман пополз по лесистому склону, я отворил дверь, прислушался, сделал несколько шагов вдоль выкрашенного в ржаво-рыжий цвет сарая и опять прислушался: с опушки леса, который спускался к дороге, на меня глядела стайка косуль. Чтобы пройти мимо окон жилого дома, я пригнулся, рывком бросился через двор, затем прокрался вдоль стены из мореных досок и очутился у грязного подвального окошка, за которым горела старая керосиновая лампа. В ее тусклом свете я разглядел лицо и плечо старика, лежавшего на скамье, словно в изнеможении. У стены ровными рядами выстроились бутылки. Посредине стоял самогонный аппарат, тут же — колбы, реторты, змеевики, из наклонной трубки капли падали в котелок; наконец-то я понял причину странной настороженности моих хозяев.
К дороге пришлось продираться через кустарник. За мной шли косули, они отскакивали, когда я спотыкался, зато, если я оставался лежать, они, играючи, нападали на меня; на дороге косули слегка отстали, сохраняя из осторожности некоторое расстояние между нами, а у моста они и вовсе остановились, будто строго придерживались некой границы своей территории. Мне не понадобилось даже махать рукой рейсовому автобусу, он сам затормозил в нескольких шагах от меня, и среди пассажиров с усталыми, замкнутыми лицами я доехал до центра провинции, а там сел на скорый поезд до Стокгольма. Окрыленный успехом, я велел таксисту везти меня не домой, а сразу на корпункт. Там я никак не мог взять в толк, чем это я так обескуражил бедную секретаршу, и лишь когда она принесла мне кофе, сообразил, что ее, видимо, взволновало само мое появление. Я попросил ее заказать телефонный разговор с редакцией.
Неожиданно выяснилось, что каждому из завсегдатаев «оливковых» летучек что-нибудь да известно, каждый вдруг что-либо вспомнил, где-то что-то узнал, случайно наткнулся на некие обстоятельства, которые объясняли исчезновение Зобры и оправдывали самые худшие подозрения. Поэтому меня едва ли удивил старый учитель Зобры, когда при нашей встрече на конкурсе самодеятельных чтецов он припомнил, что его ученик вечно «терзался сомнениями», чем весьма невыгодно отличался от прочих учеников, ибо подвергал сомнению даже очевидные истины.
Я от души сочувствовал нашему главному редактору: ведь если Зобры, как и его предшественник, станет невозвращенцем, а такого известия мы ожидали буквально с часу на час, то всю тяжесть ответственности придется нести именно шефу. Уже по его лицу, с которым он сидел на очередной летучке, было видно, как шеф переживает. Он поручил вести летучку внешнеполитическому редактору и, казалось, безо всякого интереса отнесся к заявлению для печати, которое мы предварительно обсудили и окончательный текст которого велели подготовить мне. Решено обвинить Зобры в нелегальном вывозе валюты и в похищении редакционных материалов. Пока я записывал раздававшиеся со всех сторон подсказки моих коллег, телефонистка с коммутатора объявила, что поступил срочный телефонный разговор из Стокгольма.
На сей раз шеф не взял трубку сам, а попросил сделать это внешнеполитического редактора. Каждый из нас подумал, что вот сейчас секретарша из стокгольмского корпункта огласит давно ожидаемую страшную весть. И вдруг послышался голос Зобры. Как весело рассказывал он о своей аварии! С каким юмором описал дни, которые провалялся на глухом хуторе, где обитали самогонщики! Он даже не замедлил предложить для рубрики «Пестрая смесь» корреспонденцию под названием «По вине косули». Лиц наших он, разумеется, не видел — а мы сидели окаменев и хранили ледяное молчание, — однако Зобры все же догадался извиниться за запоздалый звонок, после чего попросил дальнейших инструкций.