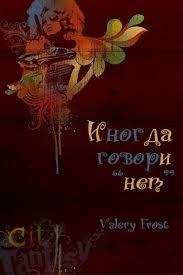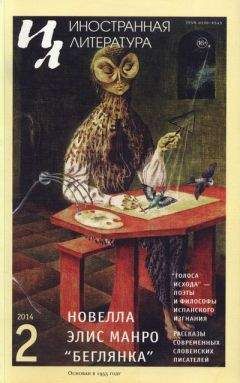Зигфрид Ленц - Рассказы
Разобрав его письменный стол, я не нашел там ничего такого, что стоило бы сохранить, если не считать папку, куда Зобры подшивал газетные или журнальные статьи о Швеции, любопытные разве лишь тем, что все они были посвящены так называемому «национальному характеру» шведов. Он подчеркивал те фразы, где отмечалась чрезвычайная корректность шведов, их пристрастие к порядку. Никто из наших сотрудников не спрашивал меня о Зобры, только внешнеполитический редактор поинтересовался раз-другой, не получил ли я с дороги какой-нибудь весточки; правда, осведомлялся он без особой настойчивости или озабоченности, скорее — просто машинально, из вежливости. Он даже сказал мне: «Такое молчание скорее успокаивает, ведь недобрые вести узнаешь моментально, ваш друг — человек надежный».
Если бы не упустил я последнего вечернего парома, то прибыл бы в Стокгольм еще в четверг. Пришлось заночевать в припортовом отеле, где после непривычно тяжелого ужина я написал две почтовые открытки: одну — Барато, другую — моей прежней жене; к адресатам они так никогда и не попали, потому что обе открытки я сунул в щель так называемого «ящика для жалоб», который принял за почтовый, ибо обалдел от пива и медового цвета водки. На первый утренний паром я пришел со страшной головной болью, а потому простоял всю дорогу на верхней палубе, где голову мне массировал и лохматил морской ветер; вид находившегося поблизости буфета с холодными закусками так и не пробудил у меня ни малейшего аппетита.
После того как несколько матросов, обслуживающих автомобильную палубу, хорошенько подтолкнули мой «ситроен», мотор у него наконец завелся, и я, миновав читавшего газету таможенника, поехал по бордовому городу под его березами, и когда добрался до лесного массива, то все мои хвори куда-то улетучились, я почувствовал себя легко и уверенно. По дороге я размышлял над тем, до чего только не доходят шведы в своем желании самообособиться — хутора и то у них стояли друг от друга очень далеко; некоторые дома, как бы в предупреждение непрошеному гостю, взбирались на труднодоступные горные вершины; они едва угадывались на скалистых островах бутылочно-зеленых озер или утверждали свою отрешенность среди привольных дремучих чащоб. Наши же дома вечно так теснятся друг к другу, что все у нас сразу становится всеобщим достоянием — и тоска и иллюзии.
На плотно укатанной дороге я неожиданно заметил, что у моего «ситроена» не слушаются тормоза; сбросив скорость, я поначалу собрался было затормозить, цепляясь кузовом за поднимающийся сбоку откос, из которого торчали корневища, но затем вспомнил, что встречных машин мне давно не попадалось, и потому решил переехать узкий деревянный мостик, так как дорога за ним снова шла вверх и, значит, машина сама потихоньку остановится. До мостика оставалось уже совсем немного, вдруг на дорогу выскочили две бурые, лохматые косули; в пылу драки они так сцепились рогами, что разнять или отпугнуть их не сумел даже мой диковинный клаксон. Перила мостика проломились, я упал или словно со стороны увидел, как падаю, кувырнулся, а точнее, предугадал, как перекувырнется машина, которая застучала по замшелым корням, пока не увязла наконец в зарослях папоротника. Но все это я, как уже сказано, скорее предугадал, чем увидел, а именно в тот момент, когда машина, проломив перила, вылетела с моста; в действительности же я почувствовал только удар, один-единственный удар.
Первым на большой пятничной летучке, которую называли также «оливковой», потому что во время обсуждения важнейших тем будущей недели тут подавали вино и оливки, так вот, первым позвонил наш корреспондент из Цюриха, затем мы выслушали предложения парижского и лондонского корпунктов. Голоса иностранных корреспондентов транслировались через громкоговоритель, таким образом присутствующие могли слышать весь разговор между главным редактором и корреспондентами. Никто из них не забыл про день рождения шефа, и оказалось небезынтересно сравнить различные поздравления, которые неизменно следовали за очередным отчетом. Стокгольм же никак не звонил, хотя засиделись мы дольше обычного, возглашая здравицы шефу и попивая особенно хорошее по торжественному случаю вино. Веселье, как говорится, достигло своего апогея, и вскоре я остался, пожалуй, единственным, кто продолжал с нетерпением ждать звонка от Зобры, больше того, никто уже, вероятно, и не обратил бы внимания на отсутствие этого звонка, если бы шефа внезапно не вызвали в министерство внутренних дел. Перед уходом он попросил меня дозвониться до стокгольмского корпункта с моего телефона.
Как выяснилось, Зобры туда еще не прибыл, не оказалось его и на квартире; растерянная секретарша корпункта доложила, что он ни разу не дал о себе знать и с дороги. Нельзя было не расслышать ее беспокойства, причем вполне оправданного, ибо она не совсем еще оправилась от неприятностей, которые выпали на ее долю из-за того, что предшественник Зобры стал невозвращенцем. Она огорченно поведала мне, что уже запрашивала шведскую полицию, однако безрезультатно, так как полная сводка дорожных происшествий и прочих несчастных случаев поступит только к вечеру. Не ускользнуло от моих глаз и то, как нахмурился наш главный редактор, когда услышал от меня итоги моего разговора с секретаршей. Уже повернувшись, чтобы уйти, он попросил звонить ему домой, если Зобры все же объявится сегодня.
Сначала я увидел мальчугана, который неподвижно сидел на табуретке; он не заметил, что я очнулся, и через распахнутую дверь продолжал глядеть на лесистый склон с серыми валунами. Стоило мне шевельнуться, как мальчуган тут же обернулся, вскочил и стремглав выбежал вон, словно ему, маленькому босоногому стражу, велели немедленно доложить о моем пробуждении; прошло действительно совсем немного времени, и в комнату шагнул худой старик, который склонился над моей лежанкой, со спокойным недоверием осмотрел меня, однако не ответил на мою улыбку и даже будто бы вовсе не заметил ее. Старик проверил повязки на моей голове и на груди, затем скупым жестом указал на чашку чаю, мол, надо пить; к выражениям благодарности он отнесся с полнейшим равнодушием, не уверен, что он вообще меня понял. На мой вопрос о телефоне старик отрицательно мотнул головой, а взмахом руки, направленной на деревянную стену, изобразил какую-то загогулину, что, видимо, означало, что в этой глуши на всю округу нет телефона.
Боль я чувствовал, только если шевелился, зато когда попробовал привстать, то сразу же свалился обратно от приступа дурноты и стука в висках. Я не рискнул попросить старика, который, похоже, был дедом мальчугана, послать за врачом. Самодельная табуретка возле лежанки весь день была кем-нибудь занята; сменяли друг друга не только старик с мальчуганом, дежурила также молчаливая веснушчатая женщина, а с приходом сумерек босоногая девочка, которая, судя по звукам, играла какими-то довольно массивными стекляшками. Когда девочка привстала, я разглядел, что она играет двумя стеклянными совами из моей коллекции.
После летучки в понедельник, когда мы вновь тщетно прождали звонка нашего стокгольмского корреспондента, главный редактор вызвал меня в свой кабинет, где высказал не только досаду, но и свои претензии непосредственно ко мне. Он напомнил, что при выборе кандидатуры для командировки в Стокгольм решающую роль сыграло именно мое поручительство; затем, выразив надежду, что мы достаточно хорошо понимаем друг друга, а потому нам нет нужды стесняться своих опасений, даже если они не вполне обоснованны, он прямо спросил:
— Думаете, он на это способен?
Ничего такого я не думал, однако сказал лишь, что надо дать Зобры еще немного времени, после чего шеф тихо проговорил:
— Я уже слышу, как тикает эта мина, я ее снова слышу. Нет, видно, в наши дни ни на кого нельзя положиться.
По пути домой я заглянул в бельэтажную квартиру бывшей жены Зобры; звонок я нажал, так и не успев сообразить, чем объяснить мой визит. Она обрадовалась мне, усадила на кушетку и исчезла в ванной, где она полоскала колготки, нейлоновые блузки и тут же раскладывала их сырыми на гладильную доску. Потом она предложила мне, чтобы я налил нам обоим кукурузной водки, а когда мы выпили по две рюмки, - она испытующе взглянула на меня и спросила:
— Что-нибудь с Зобры?
Я лишь теперь понял, чего, собственно, хотел и зачем позвонил в эту дверь. Она задумчиво приняла к сведению опасения редакции, захотела услышать подробности, которыми я, однако, и сам не располагал, затем она развспоминалась, но ни теперь, ни позднее, когда я пригласил ее поужинать, она так и не смогла предложить никаких объяснений, которые пролили бы свет на то, почему Зобры изменил своей обязательности.
Правда, я обратил внимание на то, что ей захотелось еще раз рассказать о причинах развода, который состоялся с полного согласия обеих сторон. Если я правильно ее понял, то оба, мол, не смогли привыкнуть к постоянной необходимости оправдываться друг перед другом: слишком долго они не женились и жили самостоятельно, он — редактор, она — переводчица. Никакие обоюдные договоренности не помогали, необходимость оправдываться настолько омрачала их вечера, что после пяти лет совместной жизни они решили развестись. Зобры никогда не говорил мне прежде об этой причине, никогда прежде не замечал я в нем чего-то особенного в те годы, в которые ему якобы приходилось за все оправдываться — за разговорчивость и за молчаливость, за каждое «да» и за каждое «нет»; обычно люди смиряются с подобным укладом вещей, а вот он не смог с ним свыкнуться. Но какие сделать выводы из этого открытия, я пока не понял.