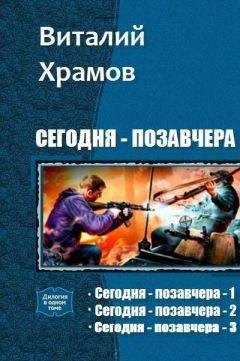Андрей Битов - Фотография Пушкина (1799–2099). Повесть
И он начал жить в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но — жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт— здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас — одарит еще однажды…) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало.
Пушкин и Петербург заполнили его, и— хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом: гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок…): ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой… возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась… проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду… начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: не за эту и не за ту не брался… Ведь Игорь все это ЗНАЛ, он все это изучил и любил, и теперь — каким же смыслом наполнялось все это, отрывочное, от параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего нумера пушкинские вздохи и шаги.
Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕ-пушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него, — и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетал. Вневременность его, как, впрочем, и самого Петербурга (вот город пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но — иначе: кто-то здесь только что был? — никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дождаться…
Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский… да, да! тот самый… сын друга… "Душа моя Павел"… как много про него знал Игорь, пока тот про него — ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял…
У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить… то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек, — они спят, но покрытые страницей начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; кромешный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком… кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам сама оставила. Вы из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей частной жизнью, скрытой от глаз посторонних, — это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху — опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них — ни слова об Игоре.
Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой… Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой "Памятник" прочтет… И Муханов не заподозрил, расположился… И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который необязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее. Но вперед— не назад. Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве — значительным, внушал большое… Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов… Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы… ни слова о Пушкине!
И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова. ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.
— Опять! — сказал Муханов с мягкою досадой.
Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многости того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное.
Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколол, как бабочку. Однако, показалось, Игоря не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. "Нет, он не похож на обезьяну…" — тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости.
Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.
— И вы в это верите? — спросил он именно Игоря, напирая на это "вы" и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.
— Я — нет, — сдавленно ответил Игорь.
— Еще бы! — непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать. — Дерзкий пуф, — заключил он. — Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.
Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий…
Возникло неловкое молчание.
— Значит, необитаема? — спросил Александр Сергеевич.
— Лет через двести она, наверное, будет заселена… — как мог уклончиво отвечал Игорь.
— Что, на Земле уже не хватит места?
— Не будет, — сказал Игорь и испугался.
— Так значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? — спросил он внезапно, как выстрелил.
— Бальзам? Какой бальзам… — лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.
— Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?
"Вот он, момент! Гений…" — устало подумал Игорь.
— Нет, — сказал Игорь. — Я не писал.
— Ах, да, простите… — Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти— виноградины… — Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?
Отступать было некуда.
— Так, я писал, — согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же ОН не оценить…
— Весьма любопытные грамматические ошибки, — одобрительно сказал поэт.
— А стихи?
— Там были стихи? — искренне удивился Александр Сергеевич. — Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?
Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград… А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову…
— А что в ваш век думают про рога?
Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз…
Боже мой! он же ВСЕ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя… Рога!
Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:
— Рога… — И, зная наперед всю эту историю, пытаясь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона. — Как сказать… Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения…
Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше.
— Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца… — лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. — Это тоже можно отчасти отнести… Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки… Хвост павлина, фазана…
Он смолк.
— Забавно. Продолжайте.