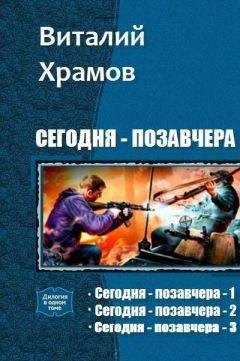Андрей Битов - Фотография Пушкина (1799–2099). Повесть
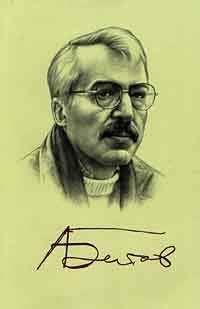
Обзор книги Андрей Битов - Фотография Пушкина (1799–2099). Повесть
Фотография Пушкина (1799–2099)
Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет.
А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.
А сегодня опять "еще не вечер".
А позавчера, "между собакой и волком" (надо же! одним присваивают героя, а другим — "часть речи"…), позавчера, в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки… Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. "Что-то я тебя раньше не видел", скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.
Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения) у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу… я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая… Тут-то он: "Это что же, выходит? опять война?.."
А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за пятьсот километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич — наконец вырвался из столицы, к сыну, к чердаку… Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?
А он мне, без обиды, а с огорчением, как недоумку — все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали… как все это случилось, что война… Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. "Это что же, — мотает он головой, как лошадь, — только внуков народили и поднять не сможем?"
И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась… Только уселся он прочно, как навсегда. "Что, — думаю, — сейчас их всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать — ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжить… А как же?.." Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы наплел… И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробность? Гипноз один… однако опять верю. Потому что страшно.
"Что это я тебя не знаю?" — опять говорит он, это у меня-то в доме мною впущенный, сидючи!.. "А я тебя", — говорю. "Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я — Чистяков! У меня брат на железной дороге…" И так далее.
Понял я про него: такой мужик — то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше — пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, а — ИЗ. Понял я про него, да не все: "Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?" Историю покупки избы моим тестем я знал смутно — может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вообразить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели… и вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках ("Почему у тебя усы, а у меня нет?" — в частности, спросил он меня с наигранной социальной злобой, а про очки — нет, ничего не сказал…), сидит на родимом пороге, и в дом не пускает, и даже воды не подаст… И вот я и впустил, и подал (за войну-то!), а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.
А наутро та же трава и погода — ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело— теперь война; подождем, сообщат… Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.
Подождали еще денек — и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась — сено ворошить.
А мне — сено не ворошить. Я — на свой чердачок-с. У меня творческий процесс-с. А только чего — не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не суметь описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стороне развели. Отсюда не видно — кто. Наверно, Молчановы — их угол…
По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой… Вот ведь, думаю, ни живопись и ни фото — никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух — уже дальний лес и само небо…
Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то, было пропавший, затоптал костерок, да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.
А теперь оглянусь и — ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменился. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью! Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках… а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика — от порыва, от ветра — и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить… сейчас и меня позовут снизу суп есть и — пропал пейзаж!
Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков — загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота… Пейзаж не пейзаж… а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стукаются через стекло о пририсованных наспех овечек… Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро наворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь…), а— лет!! Лет, минут — какая разница! Мне было тридцать… Разница — НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж…
— …для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина…
Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника… Даже, быть может, голос его… Но нет, представить головокружительно — охватывает трепет… Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудээ и его бессменных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисменты). Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга…