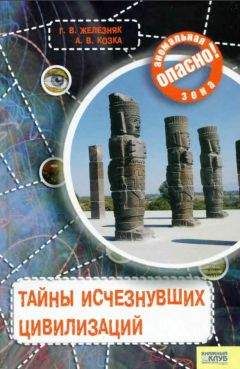Эмма Хили - Найти Элизабет
Поэтому я знаю, что на этот раз ничего не забуду. Элизабет исчезла. Но покамест все, что я установила, все, что доказала, – это что в данную минуту ее нет дома.
Пока я стояла у ворот, мне в голову пришла одна мысль, и я оборачиваюсь, чтобы посмотреть в окно. Прижав нос к холодному стеклу и приставив к вискам ладони, заглядываю внутрь сквозь тюлевые занавески. Они придают комнате призрачный вид, но я в состоянии разглядеть пустые кресла и пухлые взбитые подушки. Книги аккуратно расставлены по полкам, а коллекция майолики выстроена в ряд на каминной полке. «Как знать, – говорит Элизабет, посмеявшись над моей реакцией на уродливый, весь в прожилках, глиняный лист, или омерзительную рыбью чешую, или иное ее «сокровище», – вдруг в один прекрасный день какая-нибудь из них будет стоить целое состояние». Она, конечно, не слишком хорошо видит эти вещи, лишь расплывчатые пятна красок, но ей нравится прикасаться к ним, нравятся тактильные ощущения. Рельефные изображения насекомых и животных. Можно провести пальцем по их контурам в тех местах, где те выступают на поверхности. Глазурь почти такая же гладкая, как лягушачья кожа, и скользкая, как угорь. Элизабет живет в надежде найти какую-нибудь настоящую редкость. И обещание денег – единственная причина, почему сын разрешает хранить эти вещицы. Иначе они без лишнего слова оказались бы в мусорном ведре.
Достаю толстую шариковую ручку и ярко-желтый листок бумаги. «Очень аккуратно», – пишу я. Элизабет дома нет, свет выключен. Начинаю пятиться назад и попадаю ногой в клумбу. Нога оставляет в земле хорошо различимый отпечаток ботинка. Как хорошо, что я не замыслила ничего преступного. Осторожно обхожу клумбу и направляюсь к боковой стене дома. Заглядываю в окно кухни. Здесь нет занавесок, и поэтому я отлично вижу сияющую мойку и девственно чистую поверхность деревянной столешницы. «Еды в кухне нет», – записываю я. Ни хлеба, ни яблок. Нет свежевымытой посуды. Это немного, но уже что-то.
Возвращаюсь домой через парк. Дождя нет, так что я с удовольствием дышу свежим воздухом. Приятно хрустит под ногами подмерзшая трава. Где-то по другую сторону эстрады для оркестра находится склон, похожий на воронку метеорита, где полно цветов и скамеек. Это работа Хелен. Это был один из ее первых больших заказов, и, хотя в моей голове не отложилось мелких подробностей строительства, мне запомнилось, что для этого прошлось вывезти отсюда много тонн земли. Получилась своего рода ловушка для солнца. И теперь там растут даже тропические цветы. Хелен всегда умела ухаживать за растениями. И она точно знает, в каком месте лучше всего посадить кабачки. Нужно будет обязательно спросить ее об этом, когда я увижу ее в следующий раз.
Я хожу мимо эстрады вот уже семьдесят с лишним лет. Когда-то здесь ходили мы с сестрой, когда отправлялись в кино. В годы войны на этом месте исполняли музыку, чтобы поднять людям настроение. Повсюду расставляли шезлонги, и в них рассаживались мужчины в форме цвета хаки, и на фоне свежей сочной травы эта форма казалась грязным пятном. Сьюки всегда останавливалась – послушать музыку, которую играл оркестр, и улыбнуться солдатам. У нее всегда оказывались среди них пара-тройка приятелей, знакомых по танцам в павильоне. Я же металась взад и вперед между ней и воротами, сгорая от желания поскорее попасть в город. Мне тогда очень хотелось увидеть фильм. Вот бы мне сейчас бегать так, как тогда… Увы, боюсь, что не получится.
На лестнице, что ведет из парка, я останавливаюсь, чтобы оглянуться. Небо потемнело. Посреди травы на коленях торчит какая-то фигура. Мальчишка, стоя на эстраде, зовет кого-то, и его голос заставляет меня поторопиться, бегом броситься в сторону улицы. На третьей ступеньке лежит блестящий камешек. Я поскальзываюсь. Тщетно пытаюсь ухватиться за поручни. Мои ногти царапают кирпичную стену. Сумочка раскачивается, утягивая меня за собой. Я тяжело падаю на бок. Боль в руке заставляет меня крепко стиснуть зубы. Чувствую, что кровь, как бешеная, вспенилась в жилах, и мне кажется, что она будто не знает или забыла, куда ей нужно. Ловлю себя на том, что смотрю по сторонам, широко раскрыв глаза. Слезы постепенно высыхают.
Шок медленно ослабевает, но я слишком слаба, чтобы сразу подняться. Поэтому перекатываюсь на другой бок и минуту собираюсь с силами. Вижу ржавую нижнюю часть перил, а под ржавчиной – старую, грязную краску. В морщинках моей ладони собралась грязь; правда, я не могу понять, откуда она взялась. Острые ребра ступеней больно впиваются мне в спину. Я все-таки упала. Эти ступеньки всегда внушали мне беспокойство. Я не ударилась головой, зато изрядно приложилась боком и локтем, и завтра на моем теле точно будут синяки. Я чувствую, как они наливаются под кожей, оставляя на ней следы, похожие на сок черной смородины. Помню, с каким удовольствием в детстве я рассматривала на себе синяки. Черные и синие, формой напоминавшие облака. Я всегда обнаруживала их на бедрах, поскольку именно этой частью тела натыкалась на мебель, или фиолетовые пятна на ногтях, если вдруг прищемляла пальцы. Однажды моя подружка Одри, дурачась, чуть не свалилась с обрыва Ист-Клифф, и у меня после этого долго оставалась на груди темная полоса, – в том месте, где я прижималась к перилам, когда вцепилась ей в руку. А после этого у меня снова появились синяки, но их оставила мне та сумасшедшая, что гналась за мной до самого дома.
Меня отправили в бакалею, и я увидела ее возле прилавка. Я попросила банку консервированных персиков и порцию кулинарного жира по маминой продуктовой карточке, а сумасшедшая пробормотала что-то невнятное, обращаясь к хозяину магазина. Я стояла в стороне, глядя на высокий потолок бакалеи, пока мои покупки взвешивали и упаковывали. В нос мне бил сильный запах анисового семени, и мне почему-то показалось, что он исходит от сумасшедшей женщины, хотя, скорее всего, это пахли банки с лакрицей – те, что стояли на подоконнике. Я расплатилась и, прижимая покупки к груди, вышла. Здесь я остановилась, ожидая, когда мимо проедет трамвай. В следующую секунду кто-то больно ударил меня по плечу. Сердце едва не выскочило из груди. Из горла вырвался сдавленный свист.
Это была она. Она увязалась за мной следом и ударила меня зонтиком. Она всегда носила с собой зонт, старый, потрепанный черный зонт, наполовину раскрытый, отчего он напоминал раненую птицу. Эта женщина обычно останавливала автобусы, встав посреди дороги и размахивая этим самым зонтиком. Стоило автобусу притормозить, как она задирала платье и выставляла напоказ панталоны. Говорили, что она ведет себя так потому, что ее дочь насмерть сбил автобус. Это было еще до войны.
Наконец, последний трамвайный вагон скрылся из вида, и тут – бац! – новый удар. Я пустилась наутек. Она бросилась вслед за мной. Я прибавила ходу и уронила банку с консервированными персиками. Охваченная паникой, я ускорила бег, а она не отставала, крича что-то неразборчивое.
Я ввалилась в кухонную дверь, позвала маму, и та выскочила на улицу, чтобы отогнать сумасшедшую и подобрать банку с персиками.
– Я всегда тебе говорила: не смотри на нее, не заговаривай с ней и держись от этой сумасшедшей подальше, – сказала мама, когда вернулась домой.
В ответ я лишь пробормотала, что так и делаю, но она все равно меня преследует.
– Знаешь, мне кажется, что она просто не любит, когда ей попадаются девочки, – ответила мама, выглядывая в окно, чтобы убедиться, что сумасшедшая ушла. – И все потому, что ее дочку сбил автобус.
После этого случая у меня на плече примерно с неделю оставался синяк. Темное пятно на белой коже. Синяк был такого же цвета, что и зонтик сумасшедшей. Как будто зонтик оставил на мне частичку себя, вроде пера из сломанного птичьего крыла.
Глава 3
Я позвонила доктору. Карла велела мне этого не делать, но у меня очень болит рука. Мне кажется, что это симптом чего-то более опасного. Она же считает, что по утрам такое бывает у всех старых людей. Карла не употребляет слов «старые люди», но я знаю, что она имеет в виду. Когда она узнает, что я все-таки ее не послушала, то обязательно сообщит моей дочери, чтобы та меня отругала.
– Ради бога, мам. Тебя же просили оставить в покое этого несчастного человека, – говорит Хелен, устроившись на банкетке у окна и глядя через стекло.
– Но, Хелен, я больна, – жалуюсь я. – Мне кажется, что я больна.
– В последнее время ты только это и говоришь, хотя с тобой ничего не случилось. Просто ты давно немолода, и тут никакой доктор не поможет. А вот, кстати, и он, – с этими словами моя дочь соскакивает со своего места и бежит открывать входную дверь.
Они о чем-то разговаривают в холле, но я не могу разобрать ни слова.
– Ну, миссис Стенли, – произносит доктор, входя в комнату; он на ходу сматывает провода от наушников к плееру или чем там сейчас они пользуются. – У меня утром много дел. Зачем вы хотели меня видеть?