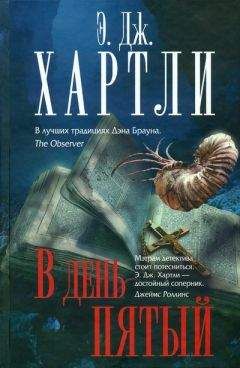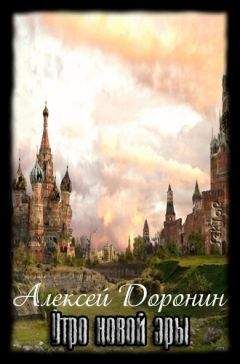Инна Гофф - Рассказы
Париж умеет быть всяким. В районе Сен-Лазар Париж кричит. Кричит реклама в небе. Кричит продавец лотерейных билетов на Гаврской улице, и его голос профессионально возвышается над ревом и грохотом. Кричат газетчики и агенты рекламных бюро. На развале у Галери Лаффайет – уже просто циркачи. Там посадят чернильное пятно на костюм и тут же выведут его на глазах потрясенных зевак. Продавцы новинок стараются перекричать один другого:
– Вот носки! Эластик! Экстра! Держите нож! Мосье боится? Смотрите, я вонзаю нож в носок и режу его. Режу!.. И он – цел! Все видели? Покупайте носки! Эластик! Экстра!..
– Стаканы! Небьющиеся стаканы, уважаемая публика! Сейчас я брошу этот стакан… Мадам не верит? О-ля-ля! Возьмите стакан, бросьте его об асфальт… Цел? Вот видите!.. Стаканы! Небьющиеся стаканы!..
Это дневной Париж. Вечером даже наш Сен-Лазар становится загадочным, праздничным в карнавальном сполохе неона. В нашем номере душно, зато здесь, на балконе, дышится легко. Я жду Аленку и смотрю вниз сквозь железную решетку балкона. Не потому, что надеюсь ее увидеть отсюда. Это невозможно. Я просто смотрю вниз, на людской водоворот, именуемый Парижем. Смотрю, как все новые толпы возникают прямо из-под земли – на углу, под нами, метро – и тут же растворяются в общей толпе. Почему-то я думаю не о Марселе Марсо, с которым познакомилась сегодня на нашей выставке, и не о милой застенчивой основательнице французского неоромана, подарившей мне свою книгу. Я думаю об Аленке, о том, как она обрадовалась, увидев меня. О том, что сейчас она спешит ко мне, моя сестра…
Мой дядя, ее отец, был тяжело ранен на фронте и не давал о себе знать. Считая его погибшим, мать Аленки вышла за другого. Женился и Аленкин отец, на женщине, которая там, в госпитале, выхаживала его. Теперь Аленка приходит к отцу в гости – он остался инвалидом и из дому не отлучается. Она приходит к отцу не слишком часто, приносит ему шоколадку или торт «Сказка», – они оба любят сладкое.
Я стараюсь вспомнить, когда увидела Аленку впервые. Наверно, в тот год, перед войной, когда Татьяна, мать Аленки, привозила ее к бабушке показать. Аленке было два года, а мне двенадцать. На память об этом событии остался любительский снимок – Аленка в кофте, из которой я давно выросла. На снимке у нее какой-то жалобный, сиротский вид, должно быть потому, что кофта ей велика и рукава свисают.
В том же году началась война, и Аленку я увидела много лет спустя. Она поссорилась с отчимом и ушла жить к отцу, «попросила политического убежища», как шутили тогда в нашей семье. Аленке было в ту пору пятнадцать лет. Вскоре она склонилась на просьбы матери и к общему удовольствию вернулась под родимый кров…
В дверь нашего номера стучат. Это Аленка. Рядом с ней молодой человек. Он смущенно улыбается. Узнаю в нем манекенщика Петю, – «Петя Смирнов… элегантен, как истинный парижанин»…
– Знакомьтесь, – говорит Аленка. – Наш Пьер. А это моя сестра… И ее муж. Ну, и далеко же вы забрались. Хорошо, что Петя ориентируется в метро. Меня одну не отпустили. А у вас хороший номерок. И балкон есть! Можно на балкон?..
Мы выходим на балкон, оставив мужчин в комнате. Аленка на миг замирает, пораженная игрой огней и кипением толпы внизу.
– Красиво, – говорит она, как бы с кем-то соглашаясь. – А в общем, я устала. Все-таки второй месяц… Я видела тебя в зале. Тебе понравилось? А как нас принимают? У нас два сеанса в день, и каждый раз такое творится. Будем дома рассказывать – не поверят!..
У Аленки фарфоровое личико, темные пушистые брови над темными глазами. И совсем девичья фигурка.
– Талия? – переспрашивает она. – Сорок девять сантиметров. Устраивает?..
На ней сиреневый костюм из тонкой шерсти. «Для ясных вечеров ранней осени», – невольно звучит в моих ушах.
– Я так тебе обрадовалась, – говорит она. – Знаешь, не с кем поговорить… Маме я не все рассказываю, а отец не поймет. И потом… Я так редко его вижу…
– Это от тебя зависит, – говорю я.
– Да, конечно. Но когда я звоню ему и говорю, что хочу прийти, он не спрашивает, как я живу. Он говорит: «Не забудь зайти в кондитерскую». Хотя я и так не забываю…
Аленка прогуливается по балкону. Неоновые бюстгальтеры вспыхивают в небе и гаснут. Возникают три девицы из «Мулен Ружа», их сменяет гигантское слово «Канкан»…
Аленка останавливается возле меня и берет меня за руку.
– Не клеится у меня жизнь, понимаешь? Я его люблю. Я хочу ребенка. Если бы он меня любил, он бы рад был, правда? А он – ни за что. Значит, он не любит меня. Или не уверен, что любит… Я не могу так жить. И я решила – уйду! Вот тебе первой об этом говорю…
Я смотрю на нее, озаренную переменчивым светом рекламных огней. В темных глазах, как в вечерней воде, отражается голубое, зеленое, красное. А личико у нее совсем как на том памятном детском снимке – жалобное, сиротливое… Где вы, четырнадцатилетние парижане?! Обнажите свои шпаги! Или во Франции перевелись д'Артаньяны?..
– Конечно, на него влияет семья, – говорит Аленка. – Им не нравится, что я манекенщица. Их почему-то коробит от этого слова. Однако подарки они берут. Я привезла его матери замшевое пальто из Каира, и она взяла. Ее от него не коробит…
Не помню, что я говорила ей. Наверно, советовала подождать, подумать. Спрашивала, собирается ли она учиться дальше. Она же способная. Надо думать о будущем. Профессия манекенщицы недолговечна. Кажется, именно это я говорила ей тогда, на балконе над площадью Сен-Лазар. Но главное я помню. Помню, что я любила и жалела ее в тот вечер. И чувство ответственности старшей за младшую, у которой «жизнь не клеится», – я испытала его там, на балконе, – тоже помню до сих пор.
Потом нас позвали. Мужчины откупорили армянский коньяк, наш дорожный запас, и предложили нам выпить с ними. Аленка увидела шоколад «Золотой ярлык» и захлопала в ладоши. Она была весела, рассказывала, как французская фирма «Диор» дала обед в честь русских манекенщиц в ресторане на Эйфелевой башне. И как она впервые ела устриц, – ничего особенного, похоже на холодец. Она рассказывала, не отводя глаз от большого трюмо, позируя перед ним, как перед фотообъективом. Иногда она вставала и, прогуливаясь по комнате, останавливалась перед вторым трюмо – над камином. Слава богу, зеркал в нашем номере хватало.
Когда они ушли, я долго стояла на балконе одна. Мне было грустно. Вспоминалось легкое прощальное прикосновение ее щеки к моей, порывистое, как бы заговорщическое пожатие руки. Нет, разговор на балконе не был ею забыт. В тот вечер я была нужна ей. В целом Париже – только я. Ей было плохо, и на чужбине я была для нее всем – матерью, отцом, друзьями, родиной.
Я стояла на балконе среди неоновых вспышек. Мне было одиноко. Бежала электрогазета над вокзалом – Реймс – Монако, 3:1 Бюстгальтеры, холодильники, самолеты и цветы загорались и гасли. Три девицы отплясывали канкан над соседней крышей. Среди этих всполохов робко мелькнула настоящая грозовая зарница и тут же погасла. Вряд ли ее и заметил кто-нибудь, кроме меня…
С тех пор прошло несколько лет. С Аленкой мы видимся редко. Иногда у дяди или случайно на улице. От дяди я знаю, что она ушла из Дома моделей и готовится в медицинский институт. И что у нее новый муж. Я его еще не видела. Здесь, на родине, у каждой из нас своя жизнь, свои друзья. Здесь мы только сестры – не больше.
1962
«Кругосветка»
На второй день плаванья двухпалубный теплоход «Лесков», следующий по маршруту Москва – Горький – Москва, – маршрут этот любители водного туризма прозвали «кругосветкой», – пришел в Рязань.
Был теплый воскресный вечер, и какая-то неторопливость чувствовалась во всем, чего ни касался глаз. На соборной площади, над прочими церквами и соборами, царил Успенский собор с синими луковками в звездах. И закат цвета красной меди сообщал всем куполам и колокольням свое тепло и свой, тоже негромкий и как бы металлический, звон. Под обрывом, огибая площадь, текла неширокая тихая речка Трубеж, впадающая в Оку близ Рязани. За речкой виднелось село, домишки, яблоневые сады. У кого-то гуляли, и нестройное пение слышалось далеко в чистом воздухе.
– Папа, иди сюда, – позвала Катя. – Тут еще одна церковь!
– Оставь папу в покое, – сказала Кира. – Пусть делает, что хочет.
Жена была сердита на него. Возможно, она как-то по-своему истолковала его задумчивость и желание уединиться. Днем она выговорила ему за это.
– Ты не такой, как всегда. Я хочу понять, что с тобой.
– Просто я очень устал, – сказал он.
– Устал от нас? – спросила Кира. Ее серые и теперь еще красивые глаза смотрели на него с гордым вызовом. И он подумал, что она еще сможет выйти замуж. Даже по любви…
Она продолжала говорить, но он не слышал ее. Как на экране телевизора с выключенным звуком, он видел сердитый взгляд, видел, как шевелятся губы, вздрагивают тонкие ноздри. Потом он скорей угадал, чем услышал имя «Тоня». Это имя украшало все их ссоры и недоразумения. Только имя, и ничего больше, – призрак его первой любви.