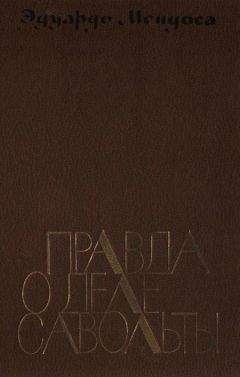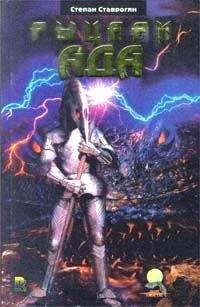Эдуардо Мендоса - Город чудес
Весной то ли 1876, то ли 1877 года отец Онофре Боувилы эмигрировал на Кубу. Мальчику было тогда года полтора, и он был единственным в семье ребенком. По словам тех, кто знавал отца еще до кубинской авантюры, тот был говорливым, веселым малым, немного чудаковатым, но зато слывшим хорошим охотником. Его мать, родившаяся и выросшая в горах, была высокой худощавой женщиной молчаливого склада характера, с резкими, порывистыми движениями и грубоватыми, но сдержанными манерами. Она спустилась в долину, чтобы заключить брак с Жоаном Боувилой, и перед тем как окончательно поседеть, имела густые каштановые волосы и смотрела на мир такими же, как у сына, серыми с голубым отливом глазами, хотя во всем остальном, что касалось внешности, Онофре пошел в отца. До XVIII века каталонцы редко выезжали в Америку, разве что в качестве должностных лиц, представлявших испанскую корону, но впоследствии случаи эмиграции на Кубу заметно участились. Деньги, которые каталонские эмигранты присылали из колонии, неожиданно привели к значительному накоплению капитала. На базе этих средств можно было начинать индустриализацию и дать толчок развитию Каталонии, чья экономика находилась в полном упадке еще со времен католических королей дона Фердинанда и доньи Изабеллы. Некоторые разбогатевшие эмигранты не только посылали на родину деньги, но и возвращались собственной персоной; их называли индианос, и на фоне остальных землевладельцев они выделялись тем, что воздвигали в своих поместьях экстравагантные особняки. Самые колоритные привозили с собой негритянок или мулаток и не стесняясь состояли с ними в интимных отношениях. Это вызывало бурю негодования, и под давлением родственников и соседей они были вынуждены выдавать своих рабынь замуж за обалдевших от нежданно свалившегося на них счастья крестьян-арендаторов. От этих браков рождались скудоумные заторможенные дети с бурой кожей, чьим единственным предназначением оставалась религия. Их посылали миссионерами в дальние пределы: например, на Марианские или Каролинские острова, все еще зависимые от архиепископского престола Кадиса и Севильи. Затем эмиграционный поток ослабел, хотя не переводились те, кто пересекал океан в поисках лучшей доли. Но это были лишь отдельные случаи: второй сын в семье, вынужденный прозябать в нищете по существующему тогда порядку наследования, согласно которому все родовое имущество завещалось первенцу, так называемому hereu, либо какой-нибудь помещик, спустивший свое состояние до нитки. Жоан Боувила не подпадал ни под один из этих случаев: пи тогда, ни после никто так и не узнал, отчего он мигрировал. Одни искали причину в его непомерных амбициях, другие – в семейных размолвках. Кто-то придумал следующую историю: якобы Жоан Боувила сразу же после свадьбы случайно открыл некую ужасную тайну, затрагивавшую честь его жены. Говорили, что по ночам в доме слышались крики и звуки страшных ударов, что крики эти не давали уснуть ребенку; гот плакал ночи напролет до самого рассвета и утихал лишь тогда, когда скандал сходил на нет. Похоже, во всем этом не было ни на йоту правды. После отъезда Жоана Боувилы священник прихода Сан-Климент продолжал принимать в церкви его жену Марину Монт, допускал ее, как и всех богобоязненных прихожан, к святому причастию, но выделял среди прочих особо почтительным отношением. Этим он притушил на время злорадные сплетни.
Через некоторое время Жоан Боувила написал жене письмо.
Это письмо, отосланное с Азорских островов, куда корабль совершил заход, доставил дядюшка Тонет в своей неизменной двуколке. Поскольку Марина Монт не умела ни читать, ни писать, его прочитал священник, причем сделал это в воскресенье прямо с кафедры и перед началом проповеди, чем заставил злые языки умолкнуть навсегда. Когда у меня будет работа, дом и я скоплю немного деньжат, то пошлю за вами, – говорилось в письме. – Плавание проходит хорошо, сегодня мы видели акул; они стаями идут за кораблем в опасной близости и все ждут, не свалится ли кто-нибудь из пассажиров за борт, чтобы тут же его растерзать; акулы перемалывают все, что попадается им на зубы, а зубы – страшные, в три ряда, и если уж кого угораздит оказаться в их пасти, то, будьте уверены, они сожрут и переварят его с потрохами, ничего не вернув морю. Больше он не написал ни строчки.
Онофре Боувила тщательно сложил письмо вдвое, сунул его под подушку, задул свечу и закрыл глаза. На этот раз он погрузился в глубокий сон, не чувствуя ни жесткости матраса, ни той ярости, с какой на него набросились полчища блох и клопов. Однако перед самой зарей его разбудили тяжесть, давившая на живот, странное урчание и неприятное ощущение, что кто-то за ним пристально наблюдает. Горела свеча, но не та, которую он задул несколькими часами раньше; кто-то держал в руках другую, а кто – Онофре не смог сразу разглядеть: его внимание было поглощено иным предметом. Поверх одеяла сидел Вельзевул, кот Дельфины, – зверюга с выгнутой спиной, распушенным хвостом и выпущенными когтями. Руки Онофре находились под простыней, и он не осмеливался выпростать их, чтобы защитить лицо, – любое движение могло разозлить животное еще больше. Он затаил дыхание, на лбу и верхней губе проступили капельки пота.
– Не бойся, он не бросится, – прошептал голос, – если ты не сделаешь мне ничего плохого. А сделаешь – так он выцарапает тебе глаза. – Онофре узнал голос Дельфины, но не мог произнести ни слова, уставившись как завороженный на кота. – Насколько мне известно, ты так и не нашел работу, – продолжала Дельфина; в ее голосе звучали нотки удовлетворения – то ли потому, что неудача Онофре подтверждала ее пророчества, то ли потому, что она находила особое удовольствие в страданиях ближнего. – Все думают, я ничего не понимаю, но я все вижу и слышу. В доме со мной обращаются, как с ненужным предметом, словно я пустое место, даже не считают нужным здороваться, когда натыкаются на меня в коридоре. Тем лучше – ведь вокруг одни ничтожества, только и помышляют, как бы затащить меня в постель… Ты знаешь, о чем я говорю. Ну что ж, пусть попробуют – Вельзевул тут же разорвет их на куски. Поэтому-то они и делают вид, будто меня не замечают.
Услышав свое имя, кот мерзко фыркнул, а Дельфина издала довольный смешок. «Да она просто рехнулась, – подумал Онофре. – Этого еще не хватало. Чем все это может кончиться? – спросил он себя. – Пропади все пропадом! Лишь бы не остаться без глаз…»
– Ты не похож на них, – продолжала меж тем Дельфина сдавленным голосом, без всякого перехода сделавшись вдруг серьезной, – наверное, еще слишком мал. Но жизнь тебя быстро всему научит. Скоро, может, уже завтра, ты очутишься на улице, будешь спать где придется и все время держать ухо востро. Изо дня в день будешь просыпаться закостеневший от холода и голода, драться за кусок хлеба и за место на помойке, а потом молить Бога, чтобы не пошелдождь и поскорее наступило лето. Ты будешь постепенно меняться, превращаясь, как и все, в законченного подонка. Что? Молчишь? Можешь говорить, но тихо, и не делай резких движений.
– Зачем ты пришла? – спросил наконец Онофре свистящим шепотом. – Что тебе от меня нужно?
– Все думают, я гожусь только для мытья полов и посуды, – повторила Дельфина, скривив лицо в презрительной улыбке. – Однако у меня есть деньги, и при желании я могу помочь.
– Что я должен сделать? – спросил Онофре, чувствуя, как спина взмокла от пота.
Дельфина шагнула по направлению к постели. Онофре весь напрягся, но она остановилась в некотором отдалении и, помолчав, торопливо проговорила:
– Слушай внимательно. У меня есть мужчина. Об этом никто не знает, даже родители. Я им никогда об этом не скажу, но в один прекрасный день, неожиданно для всех, убегу с ним. Меня начнут повсюду искать и не найдут – мы будем уже далеко. Жениться нам не обязательно – мы и так будем вместе всю жизнь, и здесь меня больше не увидят. Если ты меня выдашь, я скажу Вельзевулу, и он раздерет тебе лицо. Понял? – закончила девушка. Онофре именем Бога и памятью матери клятвенно пообещал сохранить ее секрет. Это удовлетворило Дельфину, и она тут же добавила: – Послушай, мой друг принадлежит к группе благородных и мужественных людей, решительных в своем стремлении покончить с несправедливостью и нищетой, которые нас окружают. – Она сделала паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели ее слова на Онофре Боувилу, и, не видя его реакции, добавила: – Ты слышал что-нибудь об анархизме? – Онофре отрицательно мотнул головой. – А о Бакунине? Знаешь, кто это такой? – Онофре сказал, нет, не знает, и она вместо того, чтобы разозлиться, как он боялся, только равнодушно пожала плечами. – Этого следовало ожидать, – проговорила она наконец. – Новые идеи трудно внедряются в умы людей. Но подожди немного, скоро о них узнает весь мир. Скоро все переменится.
В шестидесятые годы XIX века многочисленные группы анархистов, появившиеся и расцветшие пышным цветом во время борьбы за объединение Италии, приняли решение послать своих представителей в другие страны, чтобы они пропагандировали учение анархизма и обращали как можно больше людей в свою веру. В Испанию, где анархистские идеи были давно известны и пользовались большой популярностью, был заслан человек по имени Фоскарини. Однако испанские полицейские, действуя заодно с французскими, в нескольких километрах от Ниццы задержали поезд. Войдя в вагон, они скомандовали: