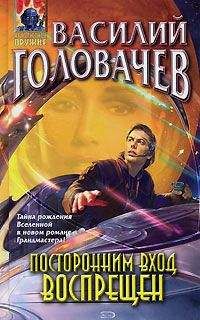Владислав Николаев - Своя ноша
Татьянины надежды сбылись: нашла, диссертацию подготовила, кстати, в следующий понедельник уже защищает ее.
Однако не надо думать, что все это было очень просто: пришел, увидел, победил. Нет, совсем не так. Район совершенно безлюдный. Между Уганском и Шамансуком — никаких поселений. Существовал некогда прииск Нежданный — золото мыли, но и тот давно закрыт. Горы, тайга, бурные реки, топи. Снаряжение везли во вьюках. Лошади то и дело падали. Поднимали их за хвосты. Сами поиски проходили на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Трава не растет. Земля в метр покрыта мхом. Под ним и летом не тает лед.
… Однажды на студента Митю Колоска спрыгнула с дерева рысь. Хорошо, топор нес в руке. Махнул им через плечо, и рысь с пробитым черепом упала к ногам…
Признаки оруденения они обнаружили только осенью, восьмого сентября. В этот день в горах начались снегопады. А двенадцатого сентября, уже по глубокому снегу, нашли коренные обнажения магнетитовой руды…
Но снег, тайга, мхи, рыси — полбеды. Самые большие трудности возникали по вине бюрократов из Уганска. В Уганске еще с дореволюционной поры существует железный рудник, при нем — геологическая служба. Когда дирекция института направляла туда поисковый отряд, она предварительно договорилась с начальником этой службы, неким Крапивиным, что тот полностью снабдит отряд полевым снаряжением — из города чтобы не везти, и в остальном поможет. Но Крапивин не только не помогал, а, наоборот, как мог мешал отряду. Не хотелось начальнику, чтобы кто-то другой, из другого ведомства открывал на его территории новые месторождения. Около месяца использовал отряд на проверке заведомо бесперспективных заявок, а когда наконец выпустил его на Шамансук, то, считай, ровным счетом без ничего. Приходилось в самый разгар бросать работу и ехать за продуктами. А во время снегопадов люди оказались без палатки, с тремя тонкими байковыми одеялами на четверых…
Если вначале Татьяна говорила спокойно, деловито, то под конец голос ее зазвенел от гнева. Эта неожиданная запальчивость меня крайне удивила. Но еще больше удивило то, что я впервые услышал о Крапивине. Наверно, давно уже, как заноза, застрял в ее мозгу — и ни словечка мне, мужу! Странно! А вот ребят как раз не стоило посвящать в подобную историю.
Татьяне хлопали.
Куб без устали махал авторучкой — точно забор красил малярной кистью. Потом он спрятал блокнот, пожал мне руку и побежал в редакцию — сдавать в номер репортаж о проводах. Татьяна тоже попрощалась — спешила в институт.
Мы вошли в автобус. Шофер поднял голову, вполоборота посмотрел на нас мутным вопрошающим глазом, будто силился что-то вспомнить, включил газ, и автобус медленно пополз за ворота.
Шамансукская экспедиция заказала для ребят специальный самолет. Он стоял на краю летного поля с распахнутой дверцей и железным трапом под ней. В последнюю минуту Гришина мать не выдержала, заревела в голос. Парфенова, тоже сникнув, мяла в кулаке носовой платок. Лишь Кудрин держался как ни в чем не бывало. С белозубой молодой улыбкой он похлопал по плечу сначала младшую дочь, потом старшую и легонько подтолкнул их на бурое выгоревшее поле.
Я шел на посадку последним.
Ребята были одеты в трикотажные и фланелевые костюмы, в которых ходили еще на занятия физкультуры; Гриша — в короткие заплатанные штаны; к рюкзакам примотаны сверху такие же старые школьные пальтишки.
Глядя на их снаряжение, я вспомнил, как десять лет назад уезжал из дома сам. В те времена нам не твердили ни про стройки, ни про целину, ни про заводы, никто и в класс не приходил агитировать на работу, а, наоборот, приходили агитировать учиться дальше. И мы разъезжались — по университетам, по большим городам.
Меня провожала вся моя неграмотная родня — такелажники, грузчики, каменщики, уборщицы. Все были навеселе. Все шумели. Только мама изредка утирала слезы. Но и ее слезы тоже были веселые, ненастоящие. Сам я во всем новеньком — в костюме, пальто, шляпе, ботинках, при галстуке, причем и костюм, и пальто, и шляпа — первые в моей жизни. Через несколько дней я уже с гордостью показывал себя в столичном граде. И на меня действительно глазели — в трамваях, в автобусах, в метро, и я млел от удовольствия, но потом стал подмечать во взглядах, обращенных в мою сторону, что-то вроде сочувствия, или лукавой насмешки, или даже удивления — откуда, мол, такой взялся. Тогда я сам взглянул на себя как бы со стороны, сравнил с другими и с ужасом осознал: суконное косоплечее пальто слишком длинно, почти до пят, галстук завязан нелепым, с кулак, узлом, поля черной шляпы — шире плеч; в этом одеянии я походил на духовного служку или семинариста. Видно, так меня и принимали…
Заработали моторы. Самолет задрожал. Я посмотрел через иллюминатор на перрон. Кудрин ушел. Парфенова и Гришина мать все еще стояли и одинаковым движением подносили к глазам платочки. Отныне и судьба у них станет одинаковой: ждать писем от детей, не спать по ночам, все думать и думать о них.
Глава Третья
На следующий день под вечер я сидел в одиночном номере Уганской гостиницы (один шкаф, одна кровать, один пыльный половичок под ногами, одно окно, один письменный стол, одна пепельница) и, готовясь писать репортаж, перебирал в памяти впечатления минувших суток: дорогу на Шамансук, сам Шамансук, ребят, их лица, голоса.
Вчерне готовая дорога — это кучи щебня на пути, через которые наша открытая машина с белым от цементной пыли кузовом переваливалась уткой; это стада бульдозеров, по пять-шесть в ряд, надвигавших на дорожный профиль перемешанную с травой, кустами и обрывками корней землю; это, наконец, невесть откуда взявшийся молодой парень в светлобрезентовой робе, каске и с красной тряпкой, подвязанной к палке; перед сигнальщиком машина простояла больше часа; впереди ухали взрывы, и видно было, как над верхушками деревьев взлетали осколки камней, желтые щепки и раскоряченные, похожие на осьминогов, пни, — там одновременно спрямляли дорогу и добывали для ее покрытия щебенку и камень. Ребят с ног до головы запорошило цементной пылью, белым облаком кружившейся над кузовом. Побелели щеки, волосы, ресницы, костюмы, только по глазам еще и можно было их различить. Я, конечно, тоже выглядел не краше. Но с пылью скоро освоились, и никто уже не обращал на нее внимания. Ребята крутили по сторонам головами, ахали, охали, наперебой показывая друг другу всякую всячину — то нависшую над дорогой скалу, всю в трещинах и глинистых потеках, то стремительный откос, обрывавшийся чуть ли не из-под самых колес в сумрачную гнилую пропасть, то еще что-нибудь. А я не столько смотрел по сторонам, сколько на ребят, и мне было приятно, что они так довольны дорогой, свободой, новой жизнью. Я даже немножко возгордился: ведь не кто-нибудь — я им устроил эту жизнь.
Последние десять километров, уже в сумерках, машина осторожно двигалась по галечному дну речки, и это тоже было очень здорово! Полукруглыми полированными линзами расходилась из-под колес вода, скрипела галька, скреблись, шебаршили по бортам прибрежные тальники.
В поселок изыскателей приехали в полной темноте. Ни огонька, ни звука. Даже не верилось, что тут есть кто-то живой. Тьму творили горы, до небес заслонившие речную долину от всего белого света. В вышине смутно угадывались их вершины.
Шофер несколько раз просигналил. Гудки потонули во тьме, как в вате. Однако минут через десять у машины объявился Приходько. Мы его узнали по голосу. Да еще по волосам, мерцавшим в темноте, точно рой светлячков. Он провел нас в избу. Под ногами шуршала стружка, пахло свежим смолистым деревом. Приходько засветил фонарик, и мы увидели у дальней стены составленные друг на друга новенькие, еще не крашенные школьные парты. Вот так-так — из школы в школу! Но на разочарование уже ни у кого не хватило сил, и, побросав на пол котомки, вповалку улеглись спать.
Утром высыпали на крыльцо. По обеим сторонам речки на плохо расчищенных береговых склонах стояли в беспорядке новенькие рубленые избы. Между ними тут и там торчали пни с желтыми срезами. Валялись кучи хвороста. По стенам из пазов куделями свисал мох. Здесь его не жалели! Внизу дымилась речка. Прибрежные горы находились еще в тени, лишь у одной, самой высокой, замыкавшей долину с юга, голая круглая вершина была высвечена невидимым пока солнцем.
По этой лысой вершине мы и узнали ее — Шаман!
«Так вот где бродила Татьяна, вот где ее заваливало снегом!» — растроганно подумал я, и мне вдруг нестерпимо захотелось поскорее домой, к ней…
… На этом я оборвал воспоминания, придвинул к себе бумагу и начал первую фразу:
«В Уганске, на аэродроме, нас уже поджидала машина, изрядно потрепанная на горных дорогах, вся пыльно-белая от цемента, который возили на ней накануне…».
— Стоп! — сказал я и вмиг представил перед собой Манефу. «И на такой машине ехали твои ребята?» — вопрошала она. «Да». — «Безобразие! Про цемент и про пыль — вычеркнуть!» — «Но ведь именно так и было». — «Мало ли как бывает на свете? Мы не имеем права всякую грязь тащить в газету». — «Пыль, положим, еще не грязь, и ничего страшного в ней не вижу». — «Не видишь? А зря. Представь, что подумают родители, учителя?.. Или как обрадуются там, ознакомившись с твоим репортажем: вон, мол, в каких условиях работает у них молодежь. Нет! Нет! И нет!»