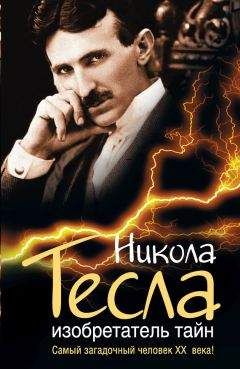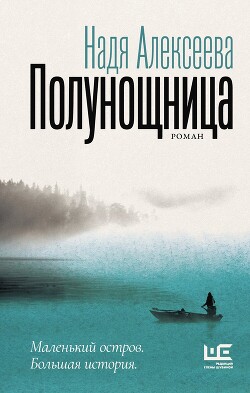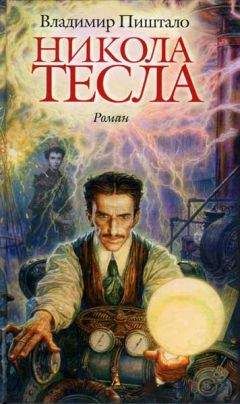Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
Потом она заперла Ялту и уехала к Сурову.
Аня давно отучилась завтракать; ела вместе с ним, в Гардоше. Сойдя на остановке, спешила к знакомому беленому дому. Чтобы удивить Сурова, как можно тише ступала по палисаднику, отпирала своим ключом. Иногда, если в пекарне не было очереди, приносила слойки с сыром или округлые булочки вроде пятилистника, посыпанные семечками. Она выбирала хлеб по настроению, по запаху или просила то, что брали местные. Деловитая женщина за стойкой говорила всем «изво́литэ» – и Ане, хотя она и понимала, что это типичная сербская фраза, было приятно.
Сегодня купила бу́рек – слоеный пирог. Он сочился мясным, пряным, сверху распадался на хрусткие лепестки, пачкал им с Суровым тельняшки. Одинаковые, сине-белые – его подарок.
На электроплите с блинами-конфорками Суров варил кофе, который успевал перехватить за миг до кипения. Он и не следил, просто оборачивался в какой-то момент, длинными пальцами брал лакированную, вихлястую ручку, переносил турку на стол.
Потом пошел дождь. «Хоть пыль прибьет», – говорила о весеннем первом ливне мать. Аня открыла оба окна на реку, вдохнула: «Дождь пахнет небом», – повторила глупость из своего детства – и поняла, что это и правда так.
Суров уселся работать. На темном экране перед ним ползли таблицы, зеленоватые мелкие графики.
Ане снился змей, зигзагами режущий небо. Он тянул ее за собой и свистел, грохотал. Лицу было жарко, как когда она застыла, околдованная горящей машиной. Спасатель в каске снова отстранял ее от пламени.
– Аня! Аня, вставай! – Суров тряс и тряс ее за плечо.
Лицо его показалось странным. Серое, без кровинки, напряженное, с огромными, совсем черными глазами. Аня подумала, что заявилась его жена. Суров редко о ней говорил: «дурак был – женился»; «красивая? да, наверное»; «старшая в нее пошла». Показывал видео, где белобрысая девочка сидела за пианино, не дотягиваясь ногами до педалей, разучивала медленный этюд, а женский усталый голос говорил: «Маша, хватит носом шмыгать; играй нормально или сходи высморкайся». Аня с Суровым не обсуждали развод: ни его, ни ее – боялись спугнуть сегодняшний день; или просто боялись.
Но Суров забормотал про бомбежку, про взрывы в Старом городе. Сунул ей свой телефон. На экране горела какая-то знакомая улица, факелом полыхало дерево, аккуратно обойденное узким тротуаром. Огонь, размахиваясь, не доставал до стен старинного особнячка.
– Это что, сериал какой-то? Ради чего ты меня разбу…
И тут увидела медальон «1899», высокие окна: дом того ялтинца стоял как заговоренный, а кругом дымились руины. Камера тряслась – снимали впопыхах; звук у Сурова был выключен.
Таковску разбомбили.
Аня бог знает зачем кинулась запирать окна: за склоном с пятнами новой зелени притихли лодки на сером Дунае.
Кое-как одевшись, выскочили из дома. Дождь прошел, оставив в палисаднике лужицы. Над головой, совсем низко, раздался свистящий визг – будто небо буравила невидимая дрель. Едва не сшибая со шпилей кресты, пронеслась пятерка истребителей. Аня пригнулась: глупо, инстинктивно. Завыла сирена; звук накатывал волнами, стучал в висках.
Добежав до кладбища под смотровой башней, они встали как оглушенные в толпе. Над рекой вдали мигнул огненный шар, расползся черной тучей, бабахнул ближним громом. Воздух заструился, как бывает в жару на трассе, только резко, моментно. Фантиками опадали в воду разноцветные обломки машин.
– Бранков, что ли… – прошептал Суров.
Заревел младенец на руках у растрепанной женщины. На ее указательный палец пластиковым кольцом крепились соска и зеленый осьминог на веревочке.
Дальше всех затопило страхом.
Какой-то мужик, на бегу пихнув Сурова под бок, указал на маленькую красную точку, загоревшуюся за Дунаем. Потом мигнула еще одна вдали. Мужик так и не вынул изо рта незажженную сигарету.
– Что? Что он говорит? – прошептала Аня.
– Говорит, ПВО заработало.
– Против кого? Господи…
Достав телефон, она пыталась вызвать такси, а приложение будто бы искало машину, хотя город встал. И Аня, и телефон действовали на автомате, как раньше. Кто-то сказал, что везде отрубили электричество. Суров спрашивал у мужика про бомбоубежище, тот лишь качал головой.
Приложение зависло: пропал мобильный интернет. Гул самолетов рвал низкие тучи. Люди, держась в тени двухэтажных домиков, будто спасаясь от жары, разбегались кто куда. Аня налетела на продавщицу из пекарни. Они лишь кивнули друг другу: все эти «изво́литэ-изви́нитэ» отвалились, как свет и связь. Суров протащил Аню вниз по лестнице, промелькнул их рыбный ресторан, опустевший, запертый, дальше – будки с попкорном, платановая аллея, фонтанчик с питьевой водой, не перекрытый, брызжущий во все стороны.
У казино остановились отдышаться. Горло распирало, пот студил голову, жег глаза. Тренькнуло сообщение: пропущенные звонки от Руслана. Затем связь снова пропала. Аня перезванивала – даже гудок не проходил.
– Он на работе, окраины не будут бомбить, – тормошил ее Суров. – Кому наш пустырь нужен? Давай, еще чуть-чуть.
Аня стояла, она не верила, она хотела очнуться.
– Вон, вон уже суд!
Аня повторяла себе, что с Русланом всё хорошо. Решила сегодня же поговорить с ним. Мысленно увидела, как выгуливает Ялту и бубнит, репетирует то, что надо будет сказать. На этом зависла, пока Суров снова не потянул ее вперед. Он бежал, озираясь по сторонам, и крепко держал ее за руку. Пряча Аню за спину, пересек проспект Теслы, хотя машины были редки.
Солнце, лиловое сквозь тучи, блеснуло в стекляшке суда. Вдали, возле мусорных баков, притулился тот грузовичок с мегафоном на крыше, сборщик металлолома. Ане показалось – она стоит у себя на балконе, слышит из мегафона сербские песни и думает, кому бы пожаловаться на шум. И всё в порядке. Жизнь больше не горит, не взрывается.
Они уже были в переулке у крыльца суда – и тут ее ослепило. Огонь был красно-черный, раздутый во все стороны. Стёкла на суде треснули и обрушились сотней зубастых кусков. Дальше Аня не видела: ее придавило, распластало по асфальту тяжелым телом Сурова. Щеку ошпарили грязь и щебень. В нос лезла горькая вонь. Суров обхватил руками ее голову, подмял под себя ее ноги. Она не помнила, сколько так пролежала, но стекло больше не осыпа́лось. Теперь шуршало, надвигалось что-то по асфальту. Прямо возле них затормозила машина, запахло бензином. Они лежали на разделительной полосе. Пухлой, грязно-белой, с розовым кровавым разводом.
– Ты жива?
Суров приподнялся. У него была ссадина на щеке, надорван рукав на куртке.
Рядом стояла бело-красная «скорая». Фельдшер с чемоданчиком тараторил по-сербски. Суров поднял Аню, жестом показал: они в порядке. Зажал пальцами плечо – в дыре потемнели от крови, слились в одну несколько полос тельняшки. Буркнув «царапина», Суров отстранил ее руку.
Сделав два хромых шага к дому, Аня остановилась. Суд без фасада был как гигантские серые соты. Бесшумно опадали на землю обрывки горелой бумаги, мошками кружил пепел, испачканные пакеты трепетали на ветках. От грузовика остались ось на двух колесах и кабина, которую сплюснуло, будто на нее обрушился кулак великана. Над ней кренилась и горела елка. Всё кругом усыпано мусором, баки опрокинуты.
«Скорая», посигналив, объехала Аню, развернулась, заслонила вид. Припарковалась к ним носом. Руслан говорил, что это не по-сербски: сербы паркуются задом к выезду. Из кабины выпрыгнул водитель. Они с фельдшером возились у баков. Погрузили кого-то на носилки, захлопнули дверь.
– Наверное, хозяин грузовика, – Суров покачал головой. – Бедняга.
«Скорая» взвыла сиреной – Суров спрятал лицо Ани у себя на груди, прижал покрепче, – проехала мимо.
Аня высвободилась, зачем-то похромала за машиной. Смотрела вслед, пока та на бульваре не повернула налево, к Земуну.
Вернувшись, она увидела свои оскаленные острыми осколками окна, вишню, сломанную пополам, как зубочистка, рыжую кухонную тряпку, заляпанную, так и не отстиравшуюся, болтавшуюся на балконе, будто ничего не случилось. Рванула к подъезду, но Суров ее окликнул.