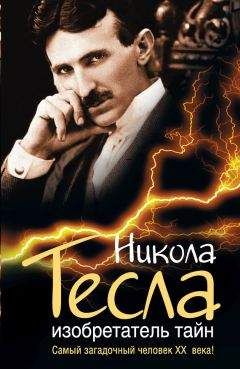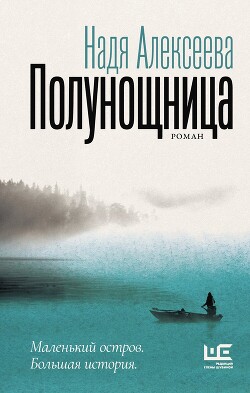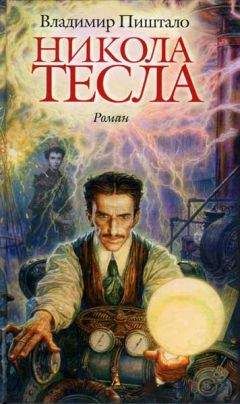Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
Обернувшись от плиты, Аня впервые разглядела собеседницу. Свитер оверсайз, волосы собраны в хвост. Сквозь ее нарощенные ресницы Аня высмотрела сродное себе одиночество, собралась сказать, что…
– Ну, ты мне напиши, короче, где ноготочки сделать?
– Не знаю.
– Посмотрела цены – это ж пипец! Не делаешь? А эпиляция, реснички? Лучше к русским, конечно: сербки лепят на один раз – и ваще технология другая…
Аня посмотрела на экран телефона. Суров спрашивал, как она.
– Это же Тиффани! – чья-то жена сунула Ане под нос наманикюренную кисть с голубоватыми ногтями. – А тут покрасят в поросячий зеленый – и ходи до коррекции…
– Э-э-э, я сейчас, прости.
В ответ чья-то жена сострила о Прощеном воскресенье.
Аня выключила конфорки, отнесла тарелки с блинами на стол, где уже расставили нарезки, салат. Что-то ответила Руслану, кому-то улыбнулась.
Чтобы не сталкиваться опять с назойливой гостьей, выскользнула в прихожую. Споткнулась о сапоги Мары. Серо-синие, с грубой подошвой. Еще студенткой, на две стипендии и подработку, Аня купила себе похожие: кожзам, но такого же глубокого цвета. Приехала в них к матери, выслушала, что дура: столько денег отвалила за чепуху дерматиновую. Утром, торопясь на электричку, боясь скрипнуть, пока мать спит, пихнула ногу в сапог – а там мягкое, точно вата, которой набивают длинные обувные носы, чтобы складок не было. Мать, что ли, позаботилась? Тряхнула сапог на линолеум: из голенища выпал мертвый мышонок. Чуть больше грецкого ореха. Шерстка серо-синяя. Так и уехала в старых ботинках…
Аня заперлась в ванной. Позвонила Сурову. Захотелось рассказать ему про эту мышь. Суров сбросил. Впервые. Показалось, с ним что-то случилось. Аня уткнулась носом в полотенце, включила кран, чтобы никто не разобрал всхлипов.
Звонок в прихожей. Один дзынь: словно надеялись, что никто не услышит – и можно будет идти по своим делам. Аня и сама так звонила, приходя в гости.
Кто-то открыл. Раздалось: «Какие люди!». В прихожую вывалились гости, хмыкали, восклицали.
В дверь ванной стукнул Руслан, шепнул в щелку: «Аня, ты там? Выходи, я тебя познакомлю». Аня наспех умылась ледяной водой. Стерла остатки туши, попшикала нос спреем, чтобы не так сильно гундосить, пригладила вылезшие из хвоста пряди, вышла с улыбкой, которую надевала на брифинги с клиентами. Как же это называла Карина? Серьезная доброжелательность? Заинтересованность? Какая-то, в общем, – ность.
Перед ней стоял Суров.
– Дим, это Аня, – сказал Руслан, гладя ее по спине. – Остальных ты знаешь.
– Дима у нас редкая птица… – Мара пожирала Аню взглядом.
Руслан тоже вгляделся в нее:
– Ребят, проходите… Дим, выпей там, мы сейчас.
Увел Аню в спальню, посадил на кровать, опустился рядом. Что-то спрашивал про усталость, трогал ей лоб. Предложил вдруг: если она хочет – он всех выпроводит. Аня помотала головой.
Он порылся в шкафу, натянул на ее ступни шерстяные носки. Смотрел на нее – как тогда, когда впервые в кино позвал. Потом рассказывал: боялся, не придет; стоял-ждал у входа; день был ясный, по-детски солнечно-синий; день пропадал зря. Она пришла – а все уже расходились, обсуждая финал. Дурацкие цифры смешались: восемнадцатого в семнадцать, зал девятнадцать. Если бы вернуться туда, в тот день… Сегодня гостей выпроваживать нет никакого смысла.
– Блины остынут. Иди, иди к ним, я пару минут, выдохну – и приду.
– Может, Мару прислать к тебе?
– Боже упаси.
Усмехнулись одновременно – как раньше, как заговорщики.
Руслан вышел. Аня заметила: он похудел. Седины прибавилось, по волоску тут и там, на затылке и за ушами…
Когда заглянула в гостиную, Суров и Руслан сидели рядом, на диване. Оба на нервах. Андрей Иваныч, закручивая блины в какие-то рулеты со всем подряд, от пршута до сгущенки, им же и принесенной, рассказывал про то, как его брат откосил от мобилизации…
– …пересадку волос сделал в Турции.
– И что? – спросил Суров; лицо у него скисло: он выпил. – В военкомате жалко обрить?
Мара хохотнула, подпихнув его под локоть.
– Каску нельзя надевать! – с апломбом выдал Андрей Иваныч.
– Кого это волнует, – вставил Руслан. – Сейчас нельзя – через месяц можно, вперед и с песней.
Андрей Иваныч упирался: мол, совсем нельзя, по медицинским показаниям. Финансист втолковывал кому-то про наследство, которое полагается правильно оформить. Чья-то жена отре́зала себе четвертинку блина и промокнула ее салфеткой. Собака, высунув морду из-за дивана, смотрела на Аню. Будто спрашивала: что будем делать?
– Тебе красного? – Суров привстал, налил, протянул Ане бокал.
– Анечка, блины удались. Что дальше по программе? Что делают в прощены дан? – голос Мары звучал развязно, нараспев. – Надо было хоть одного серба позвать.
– У тебя гугл сломался? – Руслан не выносил пьяных женщин.
– Прощенья просят, – Суров допил из чашки с сердечком «Volim»; видимо, стопки под ракию кончились.
Заговорили, какая странная традиция – всех прощать. А если не можешь?
Аня ела блин. Он был холодный, сладковатый, пористый. Во рту остался вкус масла. Пальцы блестели. Салфетки далеко, возле Мары. Пришлось потереть ладонь о ладонь. На розовой коже залоснились линии: та, что огибает подушечку большого пальца, пересекалась другой, потоньше, вроде крестом.
– Простишь меня? – Руслан приобнял ее за талию.
– Бог простит.
Вырвалось само: из каких-то старых фильмов, из телефонных разговоров матери с теть Наташей, из того, что ляпнула полчаса назад чья-то жена.
У Сурова слезились глаза – то ли от аллергии, то ли от напряжения. Что же он говорил ей про свою работу? Удаленка, приложение доставки, в Белграде в тестовом режиме, на нем – аналитика данных, зарплату задерживают… Всё сходилось – и в то же время могло быть другим проектом.
Сигаретный дым с балкона – там были финансист, чья-то жена и Андрей Иваныч, который не курил, но любил быть в курсе всего, – пополз в квартиру. Казалось, гостей отделяет от них с Суровым полупрозрачная штора.
Когда ушла на кухню за нарезками, Суров показался в прихожей. Обулся.
– Погоди, я тебя провожу.
– Не надо.
– Мне всё равно с собакой гулять, – громко сказала Аня.
Ялта, приученная к слову «гулять», выскочила из-за дивана, подбежала, поставила лапы Сурову на джинсы. Он потрепал ее по голове – как тогда, на набережной, – и вышел. Аня, сунув ноги в кроссовки, накинула пуховик и выскочила следом, забыв ключи.
По подъезду спускались молча. Пока стояли на переходе через бульвар Теслы, обнялись. Он сжал ее до боли, поводок выпал, собака кинулась перед машиной; та едва успела притормозить. Водитель обругал их по-сербски.
Суров, шмыгая носом, перенес Ялту на руках, отпустил на набережной.
Брели за собакой.
Аня указала Сурову на помост к дебаркадеру:
– Вот тут я ее и подобрала.
Кругом было темно, на чернильном небе рисовались зеленоватые ветви платанов, над ними – набрызг звезд. На том берегу Дуная светилась старая крепость. Башня в рыжем пуху огней. Шорох серой листвы – Ялта вынюхивала у помоста свое прошлое.
– Значит, это ты «Getz» Стефану помяла.
Аня кивнула.
– Жена Руслана. Тебя никто «Аней» не называл. Ну, кроме Драганы, но она говорит как-то по-чудному, «Ана», я и подумать не мог…
– Мара, кажется, догадывается.
– Пойдем домой?
– А Ялта?
– Выпью супрастина, центрина, хоть валидола… – Суров уже не был пьян. – Я не могу так больше.
10
Суд
Вторник, 28 февраля. Аня потом вспоминала этот день по минутам.
Утро было синее, весеннее. Забыв недолгий снег, на обочинах желтела мать-и-мачеха. В парке близ набережной Ялта выкапывала первоцветы лапами, нюхала сероватую землю. Аня оттаскивала собаку, ругала. Какой-то мальчишка, сбросив куртку на лужайке, бежал за воздушным змеем, белым, с красной полосой. У Ани в детстве такого не было; наверное, потому, что их запускают с отцами.