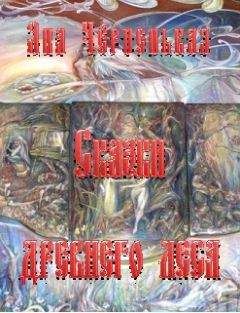Дуглас Кеннеди - Момент
— И что потом?
— Он сказал, что, если просочится хоть слово, у нас будут серьезные неприятности. Он взял с меня клятву молчать, чтоб ни одна живая душа об этом не узнала… и приказал прямо с завтрашнего дня обрубить все связи с Маргерит.
«Но мы всего лишь смотрели телевизор», — рыдала я.
«Вы смотрели телевидение verboten»[71].
«Но я часто слышу, как ребята в школе рассказывают, что родители разрешают им смотреть западное телевидение».
«Их отцы не занимают важный пост в DDR Rundfunk. Ты хоть представляешь, что меня ждет, если узнают, что моя дочь смотрит капиталистическое телевидение? Ты должна пообещать мне, что больше не будешь общаться с Маргерит».
— Ты сдержала обещание? — спросил я.
Петра опустила голову и замолчала. Потом продолжила:
— Даже не знаю, зачем я рассказала тебе эту историю. Я никогда и никому ее не рассказывала…
— Правда?
— Даже своему мужу.
— Так что же было дальше?
— Папа тут же пошел говорить с мамой. Потом она пришла ко мне, очень взволнованная, испуганная, и сказала, что я должна сделать все, о чем просит отец, что родители Маргерит поступили очень неправильно, это очень опасно. Помню, я сказала ей:
«Но они же не собираются никому рассказывать о том, что разрешили нам посмотреть западное телевидение. Это был какой-то глупый фильм. А я действительно хочу учить французский и в будущем поехать в Париж».
«Это невозможно, — печально произнесла мама. — Если ты будешь добропорядочным гражданином, тебе, возможно, разрешат съездить в Варшаву или Прагу, а может, даже и в Будапешт. Но Париж? Он на той стороне. Нам туда нельзя».
Тогда я впервые узнала, что путешествовать, как это понимают на Западе — когда ты покупаешь билет, садишься в самолет и летишь в другую страну, а возвращаешься, когда захочешь, или не возвращаешься, или просто хочешь пожить какое-то время в другом месте, — для нас это было под запретом. Как и западное телевидение — verboten.
— Что было с Маргерит?
Она уставилась в свой пустой бокал:
— Я не знаю.
— Ты хочешь сказать…
— На следующий день она не пришла в школу. И еще через день тоже не пришла. Она вообще не пришла. Между тем мои родители ни разу не спросили меня, виделась ли я с Маргерит, говорила ли с ней, и это показалось мне странным, если вспомнить, как настойчиво они призывали меня порвать с ней все отношения. В конце недели я спросила нашу классную руководительницу, что с моей подругой. Я до сих пор помню ее растерянный взгляд, когда она сказала: «Я слышала, ее отца перевели на новую работу в другой город».
— Твои родители выдали их? — спросил я.
Она не поднимала глаз:
— Я не знаю.
— Родители когда-нибудь говорили с тобой об этом?
— Никогда.
— А ты не спрашивала их?
— Как я могла?
— Ты больше так и не виделась с Маргерит?
Она покачала головой, потом добавила:
— Но кое-что интересное произошло примерно через полгода после всей этой истории. Моего отца повысили в должности, назначив директором программ по культуре на DDR Rundfunk в Халле. А спустя четыре года, когда я подала документы на факультет иностранных языков Университета Гумбольдта в Берлине — я даже не надеялась на поступление, поскольку была из провинции, да и набрала только половину требуемых баллов, — меня приняли.
— Они могли просто решить, изучив твою заявку, что ты достойная ученица. А продвижение твоего отца по службе… кто скажет, что это не стало результатом его заслуг и долгих лет упорной работы?
— Ты слишком наивен. Тот, кто не жил в ГДР, не знает, как работает система, как все доносят друг на друга. У меня нет доказательств, что мои родители сообщили в Штази о семье Маргерит, но с чего вдруг они внезапно переехали в другой город? Все жили в постоянном страхе перед тем, что о малейшей провинности будет доложено «наверх» и это обернется большими неприятностями. Вот почему в каждом из нас сидел внутренний цензор, и мы знали, что есть вещи, о которых лучше молчать. Вот почему я больше никогда не упоминала о Маргерит при родителях.
— Ты до сих пор поддерживаешь связь с отцом?
Она медленно покачала головой.
— Но ты пыталась связаться с ним?
— Ты не понимаешь. Одно то, что я оказалась на Западе, выбралась из страны… одному богу известно, что стало с его карьерой после этого. Но я знаю и то, что, если я попытаюсь вступить с ним в контакт, последствия будут еще более тяжкими.
— А он пытался связаться с тобой?
— Ты все еще не понимаешь. Для отца единственный способ выжить там — это забыть обо мне. Всё, для него я умерла. Меня больше нет.
— Извини, — сказал я, накрывая руку Петры ладонью.
Она не отстранилась. Наоборот, наши пальцы сплелись, и она сказала:
— Мне не стоило рассказывать тебе об этом.
— Я рад, что ты это сделала.
— Но теперь я в твоих главах предательница, разрушитель чужих жизней.
— Ты была ребенком. Ты никогда прежде не видела западного телевидения. Откуда ты могла знать? Более того, родители Маргерит наверняка знали, что рискуют…
— Я предала их, — сказала она, убирая руку.
— Ничего подобного. У тебя нет никаких доказательств того, что твои родители сообщили властям и…
— Пожалуйста, пожалуйста, прекрати свои попытки найти разумное объяснение. Проблема этой страны в том, что ты вынужден предавать других, чтобы выжить самому. Но в итоге ты предаешь себя.
Меня так и подмывало сказать «Мы все предаем себя», но я знал, что это прозвучит наивно и упрощенно. Глядя на нее, такую печальную, растроганный тем, что она доверяла мне настолько, что захотела поделиться своей тайной болью, я ловил себя на мысли, что мои чувства к ней становятся все более глубокими. Я накрыл ладонью ее руку, вцепившуюся в скатерть. От моего прикосновения она напряглась, но продолжала теребить застиранную ткань. Поэтому я крепко сжал ее руку, и, инстинктивно попытавшись вырваться, Петра вдруг медленно обхватила пальцами мою ладонь. Я посмотрел на нее и увидел, что она борется со слезами.
— Извини… — прошептала она. — Мне так жаль…
— Тебе не о чем сожалеть, — ответил я. — Не о чем.
— Ты замечательный парень… — Она по-прежнему была не в силах поднять на меня глаза.
— А ты замечательная девушка.
— Нет.
— Говорю же тебе: да.
— Но ты едва меня знаешь.
— Ты удивительная…
— Ты говорил это вчера.
— Да, и с тех пор не изменил своего мнения.
Она рассмеялась, потом затихла и крепче сжала мою руку.