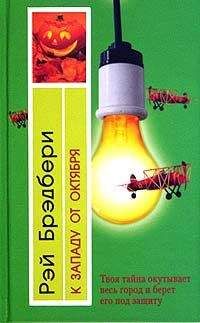Евгения Кайдалова - Ребенок
Я не могла больше смотреть даже старые добрые советские фильмы про войну. Видя, как отряд поднимается из окопов в наступление и солдаты то там, то здесь падают, подкошенные пулей, я мучилась от чудовищной несоразмерности жизни и смерти. Ведь я успела по-настоящему прочувствовать, что такое жизнь. На протяжении девяти месяцев эмбрион становится человеком. Сложнейшие системы создают его мозг и кровь, закладывают внутренние органы, формируют зрение и слух в непрестанной слаженной работе. Девять месяцев фантастически сложного, безупречного труда на идеальной фабрике жизни, где процессы отлажены с точностью до секунды, а вещества отмерены с точностью до крупинки. Стоит за этот срок произойти мельчайшему сбою в работе органов или гормонов, стоит матери выпить не ту таблетку или заболеть легкой болячкой, как может родиться неполноценное существо, урод, инвалид. Но вот организм, невероятно тонко лавируя, обошел все подводные камни и вздохнул с облегчением: человек родился, он жив, он стал собственной сложной и хрупкой системой. Потом требуются годы кропотливого труда, предельной осторожности и вечной бдительности, пока новорожденный организм не войдет в пору своего цветения. И тогда, когда впору второй раз вздохнуть с облегчением – невероятная система под названием «человек» выросла и развилась до конца, тело наполнено жизненными силами, а мозг знаниями и планами, – именно тогда один из сильных мира сего вдруг решает, что тот или иной участок земли должен приносить доходы именно ему, а не кому другому. Для этого требуется выросший человеческий организм. Политик не видит того, что поставленный на поле боя солдат когда-то был крошечным пульсирующим эмбрионом, а потом – новорожденным с огромной, готовой оторваться головой, и эту голову осторожно придерживали, беря его на руки. Он видит, что сейчас, по прошествии каких-нибудь двадцати лет, голову новорожденного следует продырявить пулей. Тупой кусок металла, разрывающего мозговую ткань, против многих лет высочайшего мастерства по производству жизни. С каким непостижимым спокойствием общество уравновесило заранее несопоставимые чаши весов!
Раньше я верила в то, что можно умереть за правду, за идею, за веру. Сейчас, осознав, каких гигантских трудов со стороны природы стоит дать человеку жизнь, я была убеждена: ни одна на свете полоска земли, ни одна государственная тайна, ни один культ ни одного бога этой жизни не стоит. И уж тем более не стоят ее шкурные интересы властей предержащих или ярость фанатиков. А ведь через восемнадцать лет моего новорожденного ждал призыв в армию…
Но если даже мне удастся сделать так, чтобы жизнь ребенка не стала мелкой монетой в плате за чужие интересы, из-за плеча всегда будет выглядывать другая опасность. Наша цивилизация приносит жертвы всемогущей скорости и всесилию медицины, жертвы обильные и ежечасные, без перемирий и актов о капитуляции. Человек может умереть за то, что ему захотелось повидать другие страны, отправиться на дачу в выходные, вовремя успеть на праздник к друзьям. Далее – обломки самолета, искореженная машина… Видя на экране этот привычный кошмар, я каждый раз упиралась мыслями в одно и то же: все те люди, что сегодня погибли в пламени и адском скрежете металла, когда-то были новорожденными младенцами. Вы в состоянии представить себе гибнущего младенца? Стоило мне лишь на секунду позволить своему воображению такую картину, как я чувствовала, что сознание уходит из головы, а черепная коробка переполняется горячей черной кровью. Я подбегала к спящему ребенку, садилась рядом и брала его за руку. Он этого даже не замечал, ведь он подключался к действительности только тогда, когда приходило время еды. Ребенок по-прежнему спал в позе сдающегося солдата, вскинув руки вверх, он был полностью беззащитен перед миром, и пока я стискивала его вскинутый кулачок, я верила в то, что смогу его защитить от повисшей в воздухе угрозы. Ведь ребенок может умереть только за то, что он человек и обладает человеческим сердцем, почками, печенью, которые пригодны для пересадки органов. По всей стране то там, то здесь пропадали дети…
Да, с рождением ребенка все краски моего прежнего мира разом потухли и цветущий луг превратился в пугающую черной неизвестностью пещеру. И чтобы выжить в темноте, себе я тоже оставила лишь один цвет: вместо голубой надежды и зеленой свободы, вместо желтой переменчивости и белого успокоения, вместо розового легкомыслия и лиловых раздумий я зажгла в себе один огненно-красный луч – цвет борьбы и победы.
Какими они были, эти первые дни в темноте? Боюсь, что ответ предугадать легко: не зная ни одного из выступов и закоулков начатого мной пути, не имея ни малейшего опыта и пребывая в одержимости выстоять любой ценой, я билась лбом обо все углы, поскальзывалась на каждой неровности и цепенела от страха при каждом постороннем шорохе.
Начать с пеленок: я догадывалась о том, что у детей они бывают мокрыми, но даже не предполагала, что это происходит по стольку раз на дню. Кроме того, мокрой оказывалась не только та пеленка, что была пропущена у ребенка между ног, но и все, во что он вообще был завернут, включая распашонку. Если ребенок бывал грязным, то и грязным оказывалось все одновременно. Мне казалось, что я весь день не занимаюсь ничем другим, как только меняю пеленки и швыряю их кипятиться в металлический бак (разумеется, ни о каких стиральных машинах в моей первобытной по уровню технического оснащения квартире речь и не шла).
Но самым страшным было то, что если я немного упускала время смены пеленок, то постепенно намокали моя простыня и матрас. Матрас каждый раз приходилось переворачивать другим боком, чтобы намоченный успевал просохнуть, а простыня просыхала сама собой – стирать ее каждый раз не было сил, а в процессе ухода за ребенком я навсегда распрощалась с брезгливостью.
Пеленки приходилось не только кипятить, но дважды полоскать и гладить. Все то драгоценное время, что я могла бы провести, держа ребенка на руках, разговаривая с ним, еще ничего не понимающим, но чувствующим ласковый голос, было угроблено на бесконечные стояния над ванной и перекладывание мокрых тряпок из одной воды в другую, а затем – на тупое вождение взад и вперед утюгом.
– Памперсами не пользуйтесь! – строго сказала мне врач во время второго своего посещения два дня спустя после первого. – В памперсах все преет, для мальчиков это особенно вредно! Кипятите пеленки в мыльной воде, никаких порошков!
Сдалась я через две недели, понимая, что уже не вижу в жизни ничего, кроме застилающей глаза пеленочной белизны. Покупая первую упаковку памперсов, я привычно чувствовала себя преступницей – на сей раз я наносила вред репродуктивной функции ребенка. Но, развернув синтетический подгузник, я не обнаружила ровным счетом ничего фатального: этакие трусики на липучках. Забавный дизайн, внутри какие-то оборочки, пахнет чем-то медицинским. Медицинский запах меня успокоил: я надела на ребенка первые в его (и моей) жизни памперсы и вскоре поняла, что перенеслась в другое измерение. В новом измерении я могла не все свое время проводить за стиркой. Впервые за две недели я, покормив ребенка, не начала измученно сдергивать с него промокшие тряпки, а прилегла с ним рядом на кровать и несколько минут смотрела, как он спит, поглаживая его по голове.