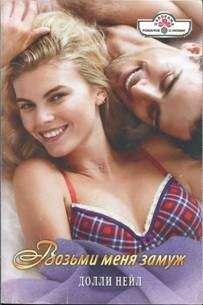Александр Терехов - Каменный мост
Литвинов: «…это не первый случай недисциплинированности Трояновского и игнорирования директив… Если Трояновскому вовремя не будет сделано внушение, то мы не ограждены от дальнейших крупных неприятностей с Америкой».
Трояновский кипящей смолой, с рассчитанной долей яда, с доимперской прямотой, уже подзабытой императором: «Я знаю, что этот человек зол на меня до последних крайностей за то, что ЦК не согласился с его позицией по кандидатурам для полпредства. Свою злобу он теперь вымещает на мне. У него достаточно мелочности, чтобы доходить до обвинений… Вынужден ставить вопрос о моем отзыве отсюда… ибо я отдаю себе отчет, что Литвинова снять невозможно». Человек, который мог все, подчеркнул слова после «ибо», приказал: Литвинову не показывайте, а Трояновского я хочу послушать.
Полгода Трояновского слушали в Москве (единственную фразу: «надо искать точки соприкосновения») и отпустили слепым. Самолеты, океанские пароходы… посол шарил вокруг себя и шептал ближнему – советнику Сквирскому, как съездил, как принимали, ослеп, не вижу, что же дальше со мной… Сквирский не слушал, растерянно сказал: «А меня отзывают… На повышение. Полпредом в Афганистан», – и Трояновский наконец-то увидел махонький проблеск, что-то прорезывалось сквозь… Он уставился в пустоту, на место, очищенное от Сквирского, и не отрываясь смотрел, пока там не начали проступать буквы «К…» – Константин Уманский, неизвестный ответ на вопрос, носимый в сердце каждым железным: гожусь ли я дальше жить?
Сквирский тоже заразился слепотой, все не мог успокоиться и наконец из Кабула написал старшим: знаете, я пятнадцать лет отработал в Америке, меня все так полюбили, знаете, как меня «беспрецедентно» (три раза употребил это умное слово) провожали: прием на пятьсот гостей, торжественные завтраки в мою честь, передовицы в нью-йоркских газетах, вы разве не читали телеграммы ТАСС о «проявлении неслыханной теплоты» (не молчите!!!)? Через полтора года его арестовали и расстреляли в начале войны, припомнив эсеровские корни; прожил пятьдесят четыре года, пухом ему земля.
Сквирского вычеркиваем – вводим Уманского. Рузвельт болезненно щурился на застеночное копошение и пересменку мутных фигур в русских сумерках и, уже раздражаясь от бессилия мозга, приказал: «Узнайте о нем побольше. Нам не следует оставаться пассивными». И почтовые голуби донесли: ответственный за ошейники из колючей проволоки для иностранной прессы, «золотые клыки», мы его ненавидим – вот кем пошел император.
«Мое назначение встречено поразительно хорошо, – доложил Уманский. – Я не ожидал. Опасался, что недруги напомнят о моих грехах по линии цензуры». Ачто другое он мог написать?
Трояновскому его смена, победитель показался человеком способным, но неглубоким.
Америка-2
И за краем света, где не конвертировалось ничего, однажды (но вот когда?) император нащупал и поднес бусинку к глазам и катнул между пальцами: узнайте о нем побольше. Объект десять лет печатался под псевдонимами и анонимно, служил и формировал сознание гостям, и заросший дед-морозовской ватной сединой пациент Бернард Шоу солнечно-нагрето жмурился под присмотром Уманского на вагонной подножке: «Глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена… В России я убедился, что коммунистическая система способна вывести человечество из кризиса и спасти от полной гибели». А голод? как же голод? Кто-то из смелых и не местных (или купленных и наученных) спросил: «А голод?» (В Поволжье ели людей). «Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в своей жизни!» И паровозный гудок, и замахали руки с белыми манжетами.
Следующее достижение: пациента Герберта Уэллса пустили к императору (может быть, именно в тот день император вгляделся в невысокого, щуплого, щели меж золотых зубов, круглые очки, Уманского?).
К любимцу русских гимназистов, собирателю оловянных солдатиков Герберту Уэллсу приближалась смерть, и в оставшееся время он решил придумать план ежедневного счастья для населения Земли и для затравки поработать «почтальоном при почте амура двух гигантов». Император и Рузвельт доверят фантасту тайны души, и он понесет их над солеными пустынями Атлантики, подправляя, обогащая, переваривая, – трое (включая почтальона) дадут населению счастье, завершат начатое Христом… С выражением безмятежной скуки на лице император слушал-слушал (в переводе Уманского) планы мирового переустройства на началах справедливости, и вдруг совершенно бессвязно англичанин схватился за главное: «Иосиф Виссарионович, он спрашивает: что вы хотите передать Рузвельту?»
«Ничего».
Ничего.
После сдачи продукции, показав Уэллса, Уманский припорхал в языках пламени к Литвиновым (Максима Максимовича не застал) – переполняло. Айви Вальтеровна, английский легкомысленный мастодонт по прозвищу Мадам Литвинов, затеребила его (при восьмилетней дочери!): ну что? что? как он вам? ведь вы впервые? так близко, так долго (вот чего стоят архивные проститутки: «не раз выступал переводчиком при товарище Сталине»)… Кто? ну и кто же он?
– Фанатик, – якобы сказал Уманский.
– Чего? Фанатик чего? – стрекотала эта полоумная сорока.
– Диктатуры… – якобы протянул Уманский.
– Пролетариата? Диктатуры пролетариата или…
– Вот этого я еще не разобрал, – якобы признался Костя и странно потрогал собственное лицо – веки, брови, лоб (не присутствовавшие, но ведающие точно все, утверждают – Костя сказал не так: «Этого еще не знает никто»).
Он, анонимно-псевдонимная тень, английский и немецкий язык императора, мастер мягкими диванами, цветочными полянами, икрой и водкой вызывать нужные мысли, показал себя первый раз 13 декабря 1931 года – встреча с писателем Эмилем Людвигом (час пятьдесят) – и последний 1 марта 1936 года – беседа с опереточным «газетным магнатом из США» Роем Говардом (три с половиной). Мы пойдем на альтернативные выборы в Верховный Совет – подарил император очередному американскому идиоту сенсацию – и выбрал Уманского. Надписывая свое фото Говарду, он вдруг поднял глаза, в которых, отразившись, вздрогнул и пошел в бешеный рост человечий эмбрион: «И вам подписать фото, товарищ Уманский?» – «Да. Да. Да. Конечно!»… И спустя месяц за спиной у посла Трояновского возник очередной литвиновский птенец – тот, что нравился всем и правильно думал, – и Трояновский потащил его в торбе за спиной мучительные недели (чужой голос, чужие уши) и упрямо докладывал свое (а Уманский докладывал нужное: посла надо менять!), пока ему не сказали «хватит» и не поманили через страшно растущую Германию получить за труды.