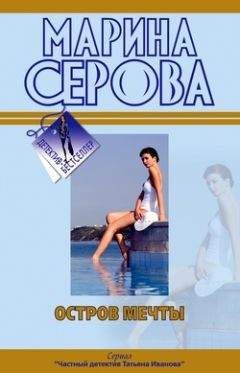Маргарет Этвуд - Слепой убийца
— Им нужна моя голова на блюде, — вот что он сказал. Через несколько дней Алекс спросил, не могли бы мы дать ему бумаги, чтобы писать. От мистера Эрскина осталась стопка школьных тетрадей, мы принесли их и ещё карандаш.
— Как ты думаешь, что он пишет? — спрашивала Лора. Мы терялись в догадках. Дневник узника, попытка самооправдания? А может, письмо с просьбой о помощи? Но он не просил нас отправлять: значит, не письмо.
Забота об Алексе очень сблизила нас с Лорой. Он стал нашей преступной тайной и нашей добродетелью, наконец-то общей. Мы были двумя маленькими самаритянками, что поднимают из канавы человека, упавшего вместе с ворами. Марией и Мартой, что служат — не Иисусу, конечно, даже Лора не зашла бы так далеко, но было очевидно, какую кому она отвела роль. Мне предназначалось быть Мартой, на заднем плане занятой хозяйственными заботами, а ей — Марией, приносящей к ногам Алекса свое неподдельное обожание. (Что предпочтет мужчина? Яичницу с беконом или чистое обожание? По-разному: зависит от того, насколько он голоден.)
Лора несла на чердак объедки, словно храмовые жертвоприношения. И ночной горшок выносила, как священную раку или драгоценную свечу, что вот-вот погаснет.
Вечерами, когда Алекс Томас был накормлен и напоен, мы говорили о нём: как он выглядит, не слишком ли исхудал, не кашлял ли — мы очень боялись, как бы он не заболел. Что ему нужно и что следует завтра для него стащить. Затем расходились по своим комнатам и укладывались спать. Не знаю, как Лора, а я представляла, что делает Алекс сейчас на чердаке, прямо надо мной. Наверное, тоже старается заснуть и ворочается с боку на бок под затхлыми одеялами. Потом засыпает. И ему снятся долгие сны о войне и пожаре, о разрушенных деревнях и разметавшихся по земле обломках.
Не помню, в какой момент они превратились в сны о преследовании и бегстве; не помню, в какой момент я присоединилась к нему в этих снах, и мы убегали от пылающего дома, взявшись за руки, по жнивью, которое уже подморозил декабрь, к темной линии далекого леса.
Но это не его сон. Это я понимала. Это мой сон. Это горел Авалон, это его обломки устилали землю — дорогой фарфор, севрская ваза с розовыми лепестками, серебряная шкатулка с рояля. Сам рояль, витражи из столовой — кроваво-красная чаша, сломанная арфа Изольды — все, от чего я так стремилась избавиться, но не разрушением. Мне хотелось оставить дом, но пусть он стоит неизменный, ждет, когда мне снова захочется вернуться.
Однажды, когда Лора ушла из дома, — теперь это было не опасно, мужчины в пальто ушли, конные полицейские тоже, а на улицах снова наступил порядок, — я решила пойти на чердак одна. У меня имелось подношение — полный карман смородины и сушеного инжира, похищенных из заготовок для рождественского пудинга. Я провела разведку (миссис Хиллкоут занимала Рини на кухне), поднялась к двери на чердак и постучала. К тому времени мы выработали условный стук — один удар, потом три быстрых. Я на цыпочках поднялась по узкой чердачной лестнице.
Алекс Томас устроился на корточках подле маленького овального окна, где было светлее. Стука он явно не слышал: сидел ко мне спиной с наброшенным на плечи одеялом. Похоже, он писал. Пахло табачным дымом — да, он курил, я увидела в его руке сигарету. По-моему, не стоит курить так близко от одеяла.
Как ему сообщить, что я тут?
— Я пришла, — сказала я.
Алекс вскочил и уронил сигарету. Она упала на одеяло. Задохнувшись, я упала на колени, чтобы её поднять, — перед глазами снова возник охваченный огнем Авалон.
— Все в порядке, — успокаивал меня Алекс. Он тоже стоял на коленях; мы оба шарили вокруг — не осталось ли искры. И тут — не помню как — мы оказались на полу, он обнимал меня и целовал в губы.
Этого я не ожидала.
Или ожидала? Внезапно, или было вступление — прикосновение, взгляд? Я как-то спровоцировала его? Насколько помнится, нет, но точно ли одно и то же — то, что я помню и то, что случилось на самом деле?
Теперь да: в живых осталась одна я.
В общем, все оказалось именно так, как Рини рассказывала о мужчинах в кинотеатрах. Только я не была оскорблена. Но остальное правда: я была ошеломлена, не могла двинуться, спасения не было. Кости превратились в тающий воск. Алекс успел расстегнуть на мне почти все пуговицы, но тут я очнулась, вырвалась и обратилась в бегство.
Все это я делала молча. Сбегая по чердачной лестнице, откидывая волосы и заправляя блузку, я не могла отделаться от ощущения, что он смеется мне вслед.
Я точно не знала, что будет, если такое произойдет снова, но одно было ясно — это опасно, по крайней мере, для меня. Я буду напрашиваться, приму, что случится, стану ходячей грядущей катастрофой. Я не могла больше приходить одна к Алексу Томасу на чердак и не могла объяснить Лоре, почему. Ей будет слишком больно: она никогда не поймет. (Нельзя исключить и другую возможность: может, он такое же проделывал с Лорой. Нет, исключено. Она никогда не позволит. Или нет?)
— Нужно вывезти его из города, — сказала я Лоре. — Нельзя его тут вечно держать. Кто-нибудь узнает.
— Еще рано, — ответила Лора. — Железную дорогу все время проверяют. — Она была в курсе, потому что по-прежнему работала в столовой.
— Тогда надо перевести его в другое место, — настаивала я.
— В какое? Другого места нет. Здесь безопаснее всего: единственное место, куда не придут искать.
Алекс Томас сказал, что не хочет застрять на зиму. Иначе спятит. Сказал, он и так уже психованный, как в тюрьме. Сказал, что пройдет пару миль по шпалам и прыгнет в товарняк — насыпь там высокая, так что это нетрудно. Ему бы только попасть в Торонто, там его не найдут: у него в городе есть друзья, и у них тоже есть друзья. А при случае он переберется в Штаты, там не так опасно. Судя по статьям в газетах, власти подозревают, что он уже там. В Порт-Тикондероге его больше не ищут.
В начале января мы решили, что Алексу можно уходить. Порывшись в гардеробной, отыскали и отнесли на чердак старое отцовское пальто, собрали Алексу кое-что поесть — хлеб, сыр и яблоко, и отправили на все четыре стороны. (Через некоторое время отец хватился пальто, и Лора сказала, что отдала его бездомному бродяге — отчасти правда. Это было так похоже на Лору, что вопросов ей не задавали, только поворчали немного.)
В ночь расставания мы вывели Алекса через черный ход. На прощанье он сказал, что многим нам обязан и никогда этого не забудет. Он обнял каждую из нас, обнял, как сестер, каждую — не дольше другой. Было очевидно, что он хочет поскорее от нас уйти. Если б не ночь, можно было подумать, что он уезжает учиться. А мы, проводив его, плакали, точно матери. И одновременно чувствовали облегчение, что сбыли его с рук, — и в этом тоже было нечто материнское.