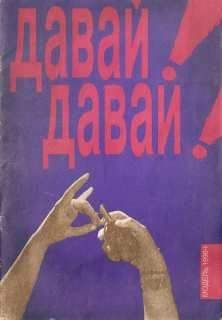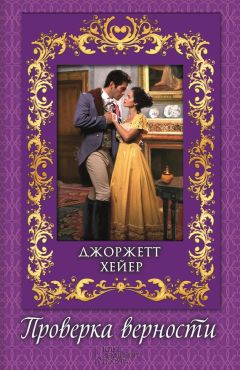Матиас Фалдбаккен - Кока-гола компани
Завершают они свои посиделки, позвонив следователю Крауссу с берлицева мобильника НОКИА и сообщив ему номер «Перниллы». Берлиц считает необходимым вновь отправиться к своей травмированной супруге, которая лежит в центральной больнице и своими выразительными губами показывает, как ей себя жалко; ему не особенно-то охота, но, как уже было сказано, он считает это необходимым, как вообще брак вынуждает людей делать несчетное число разных вещей, которые им совсем не хочется делать. По пути туда он думает о слове, которое вытатуировали Монике на животе, и про себя признает, хотя он и не осознает всей совокупности обстоятельств, что немного он встречал людей, которые бы использовали слова духовность, духовно, духовный столь же часто, сколь его жена. «И какого черта она это делает?» думает он.
Производителю моющих средств Пердссону, со своей стороны, не к кому спешить домой, поскольку его третья жена умерла. Некого ему и пригласить к себе домой, отчасти потому, что его сын — спившийся алкоголик, с которым невозможно общаться, отчасти же потому, что единственный человек, которого он может считать настоящим другом, это Берлиц. Но Пердссон все же едет домой.
Вернувшись в больницу, Берлиц говорит Монике, которая, к его вящему раздражению, спит себе, когда он к ней поднимается — Берлиц спрашивает себя, сколько же раз ей собственно требуется выспаться, никогда, никогда, никогда к чертовой матери она не может до конца выспаться — он говорит ей, что они с Пердссоном решили передать следователю Крауссу жизненно важную информацию — то есть информацию столь животрепещущую, что она позволит изобличить и Симпеля (как, рассказал он ей, зовут преступника), так и весь его грязный круг общения. Они завалят всю эту шоблу, это как пить дать. Моника слабо улыбается и говорит «спасибо тебе, дорогой». Затем она начинает пересказывать Берлицу, как она делает каждый раз, когда он отсутствует в больнице дольше четверти часа, свою последнюю беседу с главврачом отделения Янссоном, рослым светловолосым мужчиной лет под сорок, которого, по ее мнению (как уверен Берлиц), отличает высокая духовность. Каждый божий раз она заводит все ту же осточертевшую ему песню о том, как успокаивающе действуют беседы с ним и как он подробно рассказал о процедурах, из которых состоит лечение лазером, что, естественно, очень беспокоит Монику, и как он сидел на краешке койки и держал ее руку в своей, стараясь ее успокоить. «Я даже не знаю, что бы я делала, если бы его здесь не было», говорит она, «удивительно хорошо ему удается возвращать меня к нормальной жизни из того ада, который я в последние дни пережила». «Отлично», отвечает Берлиц, закусывая конфетами, которые принесла Монике ее немощная старушка-мать. И переводит разговор на то, что интересует его, а именно на то, как погубить Симпеля. Он несколько раз повторяет, что она должна настроиться перед завтрашним днем, когда снимать с нее показания придет следователь Краусс, ей не нужно рассказывать ему ничего, кроме того что произошло, ей не нужно волноваться из-за прочих обстоятельств, нужно только подробно описать вечер, когда свершилось преступление, всё, от телефонного разговора до ужина, до собственно отравления, с остальным он просит ее позволить разобраться ему самому, то есть Берлицу. «Если ты покажешь ему вершину айсберга, то я уж завершу дело, захватив следователя Краусса с собой на глубину, чтобы он убедился, что за чудовище там затаилось», говорит Берлиц, глядя ей прямо в глаза. Моника вполне искренне кивает, и ее дрожащий рот так сильно раздражает Берлица, что он сидит и теребит обручальное кольцо. Всю первую половину дня Моника лежала и готовилась к даче показаний, и она, так же как и Берлиц, горит нетерпением, во всяком случае в отношении того, чтобы вывести Симпеля из игры; никогда она не чувствовала себя такой обманутой, такой использованной и выброшенной, до такой степени душевно и эмоционально изнасилованной, как когда Симпель осуществил с ней свою операцию ДУХОВНОСТЬ; по всем основным параметрам мнения ее и Берлица в этом деле совпадают, просто так получилось, что супруги Берлиц уже давно изучили весь репертуар выражений лица и жестов друг друга. Они физически не в состоянии видеть, как на что-либо реагирует другой. Можно предположить, что большинство браков со стажем выживают за счет мелких, только им присущих жестов, функционирующих в качестве своего рода контактной поверхности между двумя людьми; проблема Берлица и Моники Б. Лексов заключается в том, что нет у них такой контактной поверхности.
Берлиц остается сидеть у нее до шести часов, потом он отправляется домой под тем предлогом, что ему нужно поработать; что он в действительности делает, вернувшись домой, это выуживает ГЛУБОКОЕ ЛЕТО из своей тайной картотеки видеофильмов, а затем добрых полтора часа занимается онанизмом перед телеэкраном. Большой новостью в мастурбационной рутине Берлица в этот вечер оказываются, само собой, гладко выбритые гениталии, с которыми он постоянно возится, лежа там. По этому поводу он даже раскупоривает бутылочку хорошего вина, что можно истолковать и как празднование им того, что он стопроцентно уверен, что Моника не заявится домой и не прервет сеанс. ГЛУБОКОЕ ЛЕТО отражается в бутылке Бордо, подходящий по форме бокал стоит рядом с ним на полу, и Берлиц на какой-то краткий миг счастлив. Чистое наслаждение.
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
Надо отметить, что Симпелю доводилось по нескольку ночей провести в одиночной камере и раньше, но никогда до этого ему не предоставляли камеры в тюрьме. А теперь она у него есть. Это ему очень кстати. Он стоит в камере и улыбается. Он так же, как и большинство людей, счастлив оттого, что у него нет выбора. Если его спросить, он охарактеризует это помещение как идеальную концентрационную камеру, а тюрьму — как идеальный концентрационный лагерь — в положительном смысле. Как место, где можно сконцентрироваться на чем-то. В камере есть койка, письменный столик, размещенный под окном, и маленький одежный шкафчик. Еще вчера во второй половине дня, то есть в пятницу, он попросил у охранника бумаги и ручку, что и получил, и, охваченный вдохновением, он не спал до трех ночи, записывая на листочках предложения и складывая затем листки стопочкой рядом со стопкой чистой бумаги. Симпель уже представляет себе, сколько ему удастся сделать, пока он томится в застенке. Главное не то, какой ему дадут срок в наказание, а сколько он сумеет сочинить, пока отсиживает этот срок. Написал он на своих листочках, в частности, следующее:
КОНТРОЛЬ ЗА СРЕДСТВАМИ УНИЧТОЖЕНИЯ
ВИЛЛА У МОТОВИЛА
ЛИЧНАЯ СТОЛИЧНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ
НАДЗОР/ПОЗОР — АПТЕКА/ДИСКОТЕКА
КРАСНЫЕ ФОНАРИ ДО ЗАРИ
ПРОКЛЯНИ ЭТО
ТРУП ОБЪЕЛСЯ КРУП
ТЕБЯ НЕ РАЗВЛЕКАЮТ?
ТРАМВАЙНАЯ ТРАВМА
КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ
МОЯ ЧЕСТЬ МОЯ КРЕПОСТЬ
По-английски он стал писать потому, возможно, что с наступлением ночи в крохотной камере почувствовал себя вправе выступать на международной арене. В течение этой ночи он несколько раз повторял известную ему цитату из Шекспира: «I could be bounded in a nutshell and still count myself a king of infinite space»[6], и т. д., что, впрочем, следует охарактеризовать как ничем не прикрытую сентиментальность. Он на самом деле так давно мечтал попасть в такую ситуацию, что первую ночь ему было не справиться с обуревавшими его чувствами. Промежутки времени между периодами интенсивного творчества он использовал, чтобы разглядеть себя в маленьком стальном зеркальце камеры. Вот как здорово раскрепощает то, что зеркало такое маленькое, подумал он. Как уже говорилось, Симпель не какой-нибудь урод, но, чтобы его тело выглядело хоть как-то прилично, когда он стоит в полный рост перед зеркалом, он, как и большинство мужчин в возрасте около сороковника, вынужден принимать самые дикие позитуры. Здесь же ему видно себя только от ключицы и выше, и этого оказалось более чем достаточно, чтобы далее развить теорию, уже у него имевшуюся, что от тяжелого мыслительного труда он становится интереснее. Иными словами, первая трудовая ночь состояла в: работе мысли (которая состояла в сочинении вышеперечисленных названий) и разглядывании себя в зеркале (что состояло в изучении того, действительно ли его глаза приобрели затуманенный взор благодаря работе мысли), работе мысли, разглядывании себя в зеркале, работе мысли, разглядывании себя в зеркале и т. д.; в общем и целом, первая проведенная Симпелем в тюрьме ночь представляла собой камерную версию исполнения автофеллации, чем и является любой «автономный» труд. Только в три часа ночи до него дошло, что он на самом деле занимается автофеллацией худшего сорта. Скотский ритуал самоопыления. Он тот час же прекратил работу и накрутил пару кругов по камере (не глядя на себя в зеркало), после чего лег на койку, и ему было тошно из-за того, что он сам себя застукал за исполнением того, что он мысленно охарактеризовал «мерзким свинским ритуалом, которого на хер недостойна даже гребаная Моника Б. Лексов».