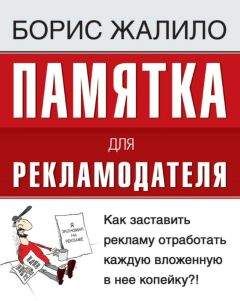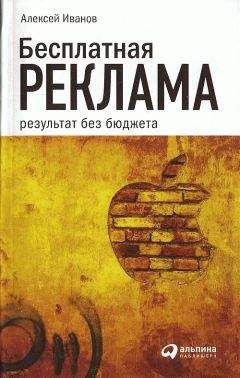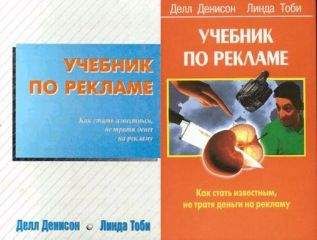Герман Брох - 1918. Хюгану, или Деловитость
Наконец Куленбек произнес: "Н-да, врачи народ музыкальный".
Майор пытался вспомнить: в молодости у него был друг, друг ли это был? Он играл на скрипке, это был не врач, хотя он… может быть, он был врачом или хотел им быть. Но память изменила ему, память застыла, застыло движение, и майор просто сидел, положив руку на черное сукно форменных брюк, И вопреки его воле, губы шептали: "Выставлено нагим и обнаженным…"
"Господин майор!" — окликнул его Куленбек.
Майор повернулся к нему: "Ах, ничего… плохие времена., мы вам очень признательны, господин доктор Кессель".
Тут дар речи вернулся и к Кесселю: "Да, музыка является утешением в это время… Нам не так уж много осталось".
Куленбек стукнул кулаком по столу: "Давайте-ка не будем здесь ныть… И если даже мир наполнен злом, тот, кто жив еще, не должен предаваться унынию… Пусть только наступит мир, и мы уж снова очухаемся!"
Майор покачал головой: "Против низкого предательства мы бессильны". Перед его глазами стояло лицо Эша, это желтовато-смуглое лицо с вызывающей усмешкой, да, вызывающей, это было подходящим словом, это лицо, которое тем не менее как будто просило прощения, и на нем было выражение, которое бывает в глазах упавшей лошади.
"Нас, немцев, всегда предавали, — сказал Куленбек, — и тем не менее мы живем". Он поднял бокал: "Да здравствует Германия!" Майор тоже поднял бокал, он подумал: "Германия", подумал о хорошем порядке и об ощущении безопасности, которым до сих пор для него была Германия. Он не видел больше Германии. Почему-то он считал Хугюнау виновным в несчастьях отчизны, в перемещениях войск, в противоречивых распоряжениях армейского командования, в нерыцарском оружии газовой войны, во всеобщем растущем беспорядке. У него в душе даже шевельнулось желание, чтобы лицо Эша слилось с лицом Хугюнау в один цельный образ, доказывая, что они оба были наместниками зла, оба авантюристы, поднявшиеся из крайне запутанной сутолоки дел и лиц, которые не поддаются пониманию, оба ненадежны и достойны презрения, эти двое, несущие на себе вину, несущие на себе дьявольскую вину в непоправимом исходе войны.
Кессель сказал: "Я закончил со всем этим… Я выполнил свой долг, и я закончил".
Страшно запутанной была жизнь, сплетение зла нависало над миром, и снова поднимался немой сильнейший вопль. Тот, кто отклоняется от тропы евангелического долга, тот грешен, и грешна была надежда на то, что милость будет исполнена уже в земном, провозглашенная дружеским голосом, разбивающим молчание и застылость танковой брони и превращающим одиночество в сладостный поток. И майор сказал: "Мы отклонились от пути долга и должны понести наказание".
"Да ну, господин майор, — Куленбек засмеялся- Я не чувствую себя обязанным, разве только чувствую, что должен топать домой, дабы наш уставший Кессель наконец-то мог лечь в кроватку". Он поднялся, форменный китель сидел несколько мешковато на его массивной фигуре. Одетый в форму гражданский тип, — невольно подумал майор, — какой это солдат? Майор фон Пазенов тоже поднялся. Зачем он сюда приходил, он, тот, кто тянет лямку военной службы? Земной долг — это отражение Божьей заповеди, а служение чему-то большему, чем ты сам, обязывает человека подчиниться более высокой идее, требует от него отказаться даже от последнего маленького кусочка личной свободы, если в этом возникает необходимость, Добровольное послушание, да, именно это является определенной Богом позицией, все остальное можно считать несуществующим. Майор одернул китель, коснулся ленты Железного Креста, и благодаря уставной строгой манере держать себя, в которой он попрощался, ему удалось вернуться к тому ощущению ясности и безопасности, которое дают человеку долг и военная форма.
Доктор Кессель проводил их по лестнице. У двери майор с некоторой церемонностью сказал: "Благодарю вас, господин доктор Кессель, за то удовольствие, которое вы нам доставили". Кессель немного повременил с ответом, затем тихо произнес: "Я вас должен благодарить, господин майор… это было в первый раз после смерти моей бедной супруги, когда я снова играл". Майор между тем не слушал его, а просто протянул ему с немного высокомерным видом руку. Вместе с Куленбеком они шли по узким переулкам, через Рыночную площадь, по их лицам текли тонкие струи осеннего дождя, оба были одеты в серые офицерские пальто, на обоих были офицерские фуражки, и тем не менее, они не были товарищами по военной службе. К такому выводу пришел майор.
77
История девушки из Армии спасения (14)
Знания, приобретенные вследствие голодания и самоистязания, конечно же, лишены законченной логической четкости. Думаю, со всей определенностью могу сказать, что тогда произошло изменение состояния моего сознания. Один лишь я имел возможность с крайним недоверием наблюдать за этим изменением, а поскольку оно происходило нога в ногу с продолжающимся недоеданием, да, я был почти готов явиться пред очи доктора Литвака и сказать, что заболел, тем более, что говорить можно было намного скорее о светлом телесном ощущении, чем о каком-то обострении моего миропознания. Задавай я, например, старый вопрос, имеет ли еще моя жизнь смысловую реальность, это было бы телесное ощущение, дававшее мне ответ и дарившее определенность в том, что живу я в своего рода реальности второй степени, что возникла своего рода нереальная реальность, реальная нереальность, и что она пронизывает меня насквозь странной радостью. Это было своего, рода состояние колебания между еще-не-знанием и уже-знанием, это был символ, который еще раз приобретал свое символическое значение, лунатизм, ведущий к свету, страх, исчезающий и снова рождающийся сам по себе, это было словно покачивание над морем смерти, стремительное скольжение вверх и вниз над волнами, не прикасаясь к ним, настолько легким я стал, это было едва ли не телесное сознание, которым я воспринимал платоническую реальность мира, и я был абсолютно уверен в том, что мне достаточно сделать всего лишь один крошечный шаг, чтобы превратить такое телесное сознание в рациональное.
В этой раскачивающейся реальности на меня струились вещи, они струились в меня, а я должен был не обращать на них внимания. То, что раньше выглядело пассивностью, сейчас обрело свой смысл. Если раньше я оставался дома, чтобы заниматься своими мыслями, произносить философские монологи и записывать их время от времени в краткой форме, то теперь я оставался в своей конуре как больной, который слушается врача и прислушивается к болезни. Все было так, как хотел доктор Литвак. Теперь он регулярно навещал меня, а иногда я его и сам звал к себе; и если он, внезапно меняя ход своих мыслей, пытался мне разъяснить, что я не болен: "У вас небольшая анемия, а в остальном вы просто ненормальный", то это тоже было правильным, поскольку я ощущал себя как человек, который истек кровью. Я больше не хотел размышлять, не потому, что не был способен к этому, а потому, что пренебрегал этим. Конечно, я не стал таким уж умным, конечно же, я не считал, что достиг той последней ступени знания, которая позволяла бы мне поставить себя над знанием, ах, слишком низко стоял я под знанием, это был скорее страх потерять то витающее в воздухе, которое скрывалось за пренебрежением словом. Или это было внезапно пробудившееся убеждение в том, что единство мышления и бытия может быть осуществлено только в самых скромных рамках? Как мышление, так и бытие ограничены до минимума!
Иногда меня навещала Мари, приносила кое-какие продукты питания, как и остальным своим больным, и я мирился с этим. Недавно она столкнулась у меня с Литваком и Нухемом. Следуя своему обыкновению, она приветствовала их дружеским "Благослови вас Господь", а Литвак не преминул и в этот раз ответить ей на это: "До ста лет". Мари закашлялась, и его лицо приняло озабоченное выражение: "Ну что же вы так", — сказал он, при этом осталось непонятным, то ли он имеет в виду вероятно имеющуюся болезнь легких, то ли опасность заражения, которой, как он считал, подвергается Нухем. Он предложил также бесплатно обследовать Мари, а когда она отказалась, сказал: "По крайней мере, гуляйте много на свежем воздухе… и берите с собой его, у него склонность к анемии". Нухем стоял рядом и листал мои книги. Впрочем, Литвак прописывал мне каждый раз новые средства, а когда выдавал рецепты, то посмеивался: "Принимать это вы все равно не будете, но, как доктор, я должен что-нибудь прописать". Мы пришли к чему-то вроде хорошего взаимопонимания.
Где находилась точка нашего взаимопонимания? Почему я должен был оставаться с ними, почему временность этой еврейской квартиры стала для меня длящейся бесконечно, я даже не мог себе представить, что оставляю ее, почему я слушаюсь этих евреев? Все является временным, беженцы являются временными, да и все их существование является таким, само время имеет временный характер, такой же временный, как и война, которая продлила срок своего существования далеко за пределы своего собственного конца. Временность стала окончательностью, она непрерывно сама себя отменяет и продолжает существовать дальше. Она тянется за нами, и мы уживаемся с ней, в еврейской квартире, в приюте. Но она приподнимает нас надо всем, что было, она удерживает нас в счастливом, почти эйфорическом состоянии витания, в котором все является будущим.