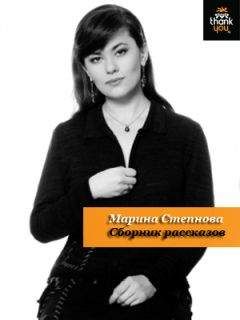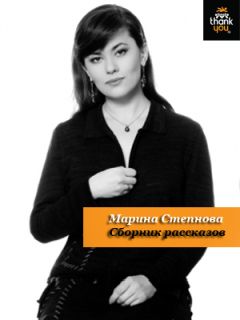Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 11, 2003
В характерный раскачанный ритм мандельштамовской прозы здесь введен материал и словарь сугубо советский; «рабочая ночь» взято в кавычки как цитата чужого языка, и она совмещена с реминисценцией из пушкинского «Каменного Гостя»: «„рабочая ночь“ пахнет озоном и северолесом» — «ночь лимоном / И лавром пахнет…». В северный производственный контекст (с «беседой о социализме») привносится поэтичный образ мадридской южной ночи, разговор о стихах советской поэтессы подсвечивается словами пушкинской Лауры, юной красавицы, певицы, любовницы.
Подобное контрастное совмещение советской реальности с отсылкой к Пушкину есть и в воронежских стихах 1935 года:
Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки…
Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…
Реальный комментарий к этим стихам дал К. Ф. Тарановский: «Поэт в полночь слушает радиопередачу известий из Москвы, сопровождаемую боем кремлевских курантов. Кто слушал эту передачу, знает, что сначала доносится шум с Красной площади, затем несколько автомобильных гудков и, наконец, начинается торжественный бой часов. Но поэт слышит и другие голоса — голоса прошлой жизни, которою он не успел насладиться (голоса недопитого знаменитого шампанского, воспетого Пушкиным и Блоком). Вопрос, начинающий вторую строфу, свидетельствует об авторском интересе к современности, к постройке московского метро (вопрос задается с симпатией, о чем свидетельствует интимная интонация частицы („Ну“ в этом вопросе)»[113].
Шампанское Аи воспето Пушкиным многократно, в частности — дважды в «Евгении Онегине», и оба раза — в сравнении и в любовном контексте. К мандельштамовскому стихотворению имеет непосредственное отношение тот фрагмент из «Путешествия Онегина», где Пушкин сравнивает с Аи оперу Россини — звуки льющихся оперных голосов:
Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые…
Но господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?
Как ссыльный Пушкин в Одессе упивался звуками Россини, сравнивая их действие с шампанским, так теперь ссыльный Мандельштам в Воронеже упивается звуками радионовостей из Москвы — и так же сравнивает их с пьянящим действием Аи. Пушкинское сравнение органично, мандельштамовская метафора неожиданна, контрастна — но зачем-то она ему нужна!
1935 год стал для Мандельштама переломным — после ареста, в ссылке у него вновь появляется желание вписаться в советскую жизнь. Перелом этот выражен в «Стансах» 1935 года, само пушкинское название которых уже настраивает на тему примирения с современностью — по аналогии с пушкинскими «Стансами» 1826 года[114]. Пушкин тут призван как авторитет, как исторический и поэтический прецедент лояльности, к которой так стремится теперь Мандельштам:
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.
Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разлучили, а теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!
Своему примирению с советской действительностью Мандельштам ищет художественное оправдание, оно поэту необходимо — только эстетическое примирение для него и возможно. В «Стансах» он находит эстетический критерий в «шинели красноармейской складки», в двух других примерах этот критерий привносится в текст с реминисценциями из Пушкина. Советские реалии подсвечиваются пушкинскими образами, и так происходит безотчетная поэтизация непоэтического — будней архангельских рабочих или новостей из радиоприемника.
В стихах Адалис Мандельштама привлекает то, что он называет «убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать». Именно такой выбор и делает теперь Мандельштам (ср. позже в «Стихах о Неизвестном Солдате»: «Я ль без выбора пью это варево<…>?»), и в «Стансах» он говорит о том, что этому выбору мешало:
Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.
Тут и собственное полубезумие после ареста, и отголоски клеветы и литературных скандалов вокруг Мандельштама (пощечину Алексею Толстому он дал буквально за неделю до ареста), и тема доносительства — «стук дятла» (Мандельштамы подозревали, что арест был вызван доносом одного литератора[115]). При этом мотив не досмотренной драки «клевещущих козлов», имеющий конкретное биографическое наполнение, имеет также и неожиданную в таком контексте поэтическую параллель — в пушкинском «Графе Нулине»:
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Может быть, отсюда же прилетел и мандельштамовский «петушок»:
Индейки с криком выступали,
Вослед за мокрым петухом…
И у Пушкина, и у Мандельштама ряд зоокартинок прерывается внезапным событием:
…Вдруг колокольчик зазвенел.
У Мандельштама таким событием становится «прыжок», описанный в воспоминаниях Надежды Яковлевны: по приезде в Чердынь, полубезумный, он в больнице выпрыгнул из окна, и это вернуло его в сознание — «Прыжок. И я в уме»[116].
Пушкинская зарисовка скотного двора носит нарочито сниженный юмористический характер — сознательная или бессознательная отсылка к ней в «Стансах» снимает драматизм с предарестных воспоминаний, облегчает примирение с реальностью. И дальше «Стансы» идут как по накатанному:
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам-друг, —
Я слышу в Арктике машин советских стук…
Таким образом, Пушкин в 1935 году помогал Мандельштаму определиться в отношениях с современностью.
ПамятникТема пушкинского «Памятника» — классическая, Мандельштам тоже на эту тему высказался, и не раз. Его «Памятник» рассыпан по нескольким стихотворениям 1935–1937 годов — тема начинает звучать после знаменитой фразы, которую услышала от него Ахматова в феврале 1934 года: «Я к смерти готов», после первого ареста и двух попыток самоубийства (в мае — июне 1934 года, на Лубянке и потом в Чердыни). Перейдя за этот рубеж, Мандельштам в двух стихотворениях весны 1935 года говорит о себе оттуда, из послесмертия:
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама…
Эти стихи о сомнительной посмертной славе — парадоксальная параллель к строчкам пушкинского «Памятника»: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой / И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Есть тут и предчувствие собственной могилы — в общей лагерной яме. Более близкая параллель, и уже с прямыми реминисценциями из Пушкина, слышна в другом стихотворении весны 1935 года[117]:
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
И то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный.
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
Откидываясь вниз, до рисовых полей, —
Покуда на земле последний жив невольник.
Пространство этого стихотворного памятника — уже не улица-яма, а Красная площадь, переходящая во всемирное пространство освобожденной земли, вплоть «до рисовых полей» Китая[118] (внешний повод к именно такому расширению, очевидно, — «китайская стена» Кремля). Размах посмертной славы — не меньше пушкинского: у Пушкина — «Доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит», у Мандельштама — «Покуда на земле последний жив невольник»; да только суть этой славы в другом. Пушкин говорит собственно о поэзии, о ее победе над смертью, о том, что душа его в лире спасется, и уж потом — о нравственном действии поэтического слова («…что чувства добрые я лирой пробуждал…» и т. д.). Мандельштам прежде всего утверждает на века статус Красной площади как центра мира, как пупа земли[119] — в этом утверждении и состоит засмертная пророческая сила его слова. В пушкинском «Памятнике» судьба поэзии увязана с посмертной судьбой души, в мандельштамовском — с социальной геополитикой, с «мировой революцией».