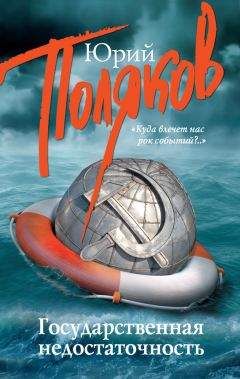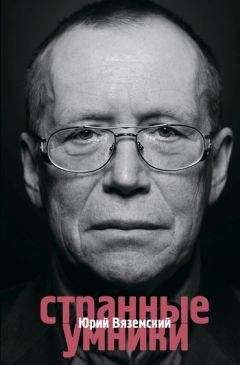Наталия Червинская - Поправка Джексона (сборник)
Мужской пол отвечает им на это, конечно же, черной неблагодарностью; и, хотя большие блондинки выходят замуж охотно и часто, но под старость всегда остаются одни и работают официантками в дешевых ресторанах, где дают мужчинам последнее, что у них есть, — полезные жизненные советы.
Алиса и Мелисса приехали из теплой Флориды, с родины Микки Мауса, в еще более теплый, то есть невыносимо жаркий, влажный, душный Вашингтон. Приехали они на большую торговую ярмарку в пригороде, называющемся Хрустальный город. Хрустальный он потому, что весь из стекла, стали и бетона, причем стекла гораздо больше. Впрочем, оно черное, дымчатое стекло, и все эти небоскребы в нерабочие дни стоят такие пустые и темные, что могли бы целиком из глухого бетона состоять.
Алиса уехала во Флориду за каким-то своим полюбовником, да там и осталась, наверное, потому, что там тепло и быстрее раздеваться. Мелисса же уехала во Флориду, потому что она пожилая еврейка и ей полагается. Все пожилые евреи живут во Флориде.
Я думаю — если бы какой пожилой еврей не уехал под конец жизни во Флориду, то смерть бы его просто не нашла. Так бы и бродила из Орландо в Майями и спрашивала: «Вы не видели Лео Лейбовица? У которого было скорняжное дело на Двадцать Третьей улице? У него еще жена Лилиан, полная такая?».
А в Нью-Йорке тем временем эта самая Лилиан проделывает старому Лео дырку в голове:
— Почему мы не можем переехать во Флориду, как все люди? Чтобы твои братья, эти свиньи, над нами смеялись — не смог, мол, даже на несчастный кооператив в Майями за всю жизнь накопить?
— А чего я не видел в твоей Флориде? — отвечает озлобленный Лео. — Чего мне там искать, смерти?
И даже сам не знает, как он прав. Самое же удивительное, что Лео уезжать не хочет вовсе не потому, что он такой провидец, а потому, что у него есть на стороне большая блондинка. Правда, она пожилая, уже на стадии официантки. Работает в мексиканском ресторане около Лейбовицев. И она пуэрториканка, так что можно себе представить — какая она блондинка. Однако старый Лейбовиц время от времени, как выражалась Мэй Вест, рад ее видеть. А Лилиан им брезгает и даже представления не имеет, что он еще способен так радоваться.
Мы договорились делить номер с Алисой, на что я всегда охотно соглашаюсь, зная, что проведу ночь в обществе Алисиных чемоданов, а сама она появится только под утро и на долгое время скроется в ванной, откуда будет выходить время от времени и спрашивать виноватым голосом: «Не очень заметно?». Я уверяю, что совершенно не заметно — опухших глаз, или запаха перегара, или засосов на шее, или о чем она там еще беспокоится — но Алиса опять идет в ванную и все старается сделать себя похожей на деловую женщину. Остается она, как и всегда, похожей на не застеленную кровать; так и кажется, что на ней крошки и что под нее бутылка закатилась.
Однажды мы с ней вместе летели откуда-то, и за время полета она мне рассказала всю свою жизнь: как был какой-то первый муж, сразу после школы, а потом второй, солидный человек, но при разводе с ней нехорошо поступил, состоянием с ней не поделился; правда, дом ей оставил. А потом был жених, или она думала, что жених, — он занимался поставкой редких животных для частных зоопарков. Это было дело очень опасное, хотя сам он не охотился, а занимался только финансами и деловой частью. Но за редкими животными теперь так следят, все время какого-нибудь очередного зверя запрещали к продаже, или они дохли по дороге от тоски и ужаса; и в конце концов он вылетел в трубу с этими своими носорогами. Тогда он уговорил Алису дом продать — ему нужны были деньги на страусиную ферму, он решил разводить страусов на мясо. Но Алису он бросил, как только они переехали во Флориду. Она даже не знала, хорошо ли у него пошли дела со страусами. Теперь она с сожителем, молодым человеком неопределенных занятий, покупает маленькую квартирку. Ясно было, что кончит она одной комнатой в дешевом пансионе, случайными хахалями, кофе себе будет варить на электроплитке и работать официанткой.
Еще, помню, я все время думала: как бы ей подошло петь Высоцкого под гитару.
Приезда Мелиссы я, однако, совершенно не ожидала. Мелисса постарше Алисы, и рассказала мне, как она за Алису беспокоится. Она за нее переживает. Она боялась, что Алиса подцепит СПИД. Хотя, по-моему, это было совершенно невозможно. Это было не в Алисином стиле, ей полагается старомодная гонорея.
А я боялась за себя — я была уверена, что именно мне достанется спать на диване. А после целого дня торговли на жестком диване спать не хочется. Торговать я не люблю.
Иногда, когда уж очень скучно и торговля идет медленно, я пытаюсь внушить себе мысль, что и покупатели созданы по образу и подобию Божию, но довольно быстро сдаюсь и начинаю думать, что в связи с перенаселением планеты многие из них созданы второпях и небрежно, а некоторые — явно в шутку.
Конечно, это заблуждение, ересь. В покупателях нет ничего дурного. Вот пойдите в любой музей — думаете те, на портретах, лучше были? Ничего подобного — у моих покупателей и зубы белоснежные, и пахнут они наверняка лучше, чем те, которые у Фрагонара и Фра Анжелико.
Но я вам признаюсь: в массе своей продающие не любят покупающих и говорят о покупающих дурно. Это единственная месть, которая нам остается. Мы, коммивояжеры, должны стоять часами на этих ярмарках, улыбаться всем с готовностью, как девица на танцульке, и никто нас танцевать не приглашает. Мы поддерживаем друг друга рассказами о невероятных глупостях, сказанных покупателями, об их полном невежестве и непонимании товара.
Тем более у меня опыта никакого нет. В стране, откуда я приехала, почти никакого товарно-денежного обмена не было. Там презирали товарооборот испокон веков, считали это занятие несовместимым с широкой душой. То ли дело — экспроприация. Экспроприация — дело веселое и духовное: дубинкой по голове, и пошел. Они и без денег могли прожить. Они бессребреники: лишь бы все их потребности удовлетворялись, и преимущественно за чужой счет; а потребностей у них было немного. Они придумали такую платоническую идею безналичного расчета…
Тут знакомый коммивояжер, ошалевший от скуки, ко мне подходит и спрашивает:
— Вы знаете, как проверять банкноты? Если вам дают крупную купюру, то надо проверить. Сейчас я вам покажу. Видите, надо потереть. Если краска сходит — то настоящие. А если не сходит — фальшивые.
Или наоборот, потому что я тут же забываю.
— А еще, знаете, — говорит он с застенчивой и ласковой улыбкой, — об них можно спички зажигать!
Мои коллеги очень тепло относятся к деньгам. Не к абстрактным, тем, которые в банках, которые называются состояние, доход, наследство, — к тем относятся серьезно, с уважением, а вот к наличным, к банкнотам, купюрам — с нежностью, как хороший мастеровой к своему инструменту. Пересчитывают их молниеносно, как игрок колоду карт тасует; складывают аккуратно, чтоб все президентами в одну сторону лежали. И никогда не мнут, даже пополам не сгибают.
Есть люди, рожденные с абсолютным слухом, и есть люди, рожденные для служения товарообороту и для акта продажи. Такой гений торговли видит свою деятельность как альтруистическую, а себя — как благодетеля и просветителя. Он открывает глаза покупателю на абсолютную необходимость владения предлагаемым товаром. Факт перехода денег от покупателя к нему, продавцу, становится тут почти вторичным, автоматическим. То есть, конечно, подпись-то на чеке он посмотрит и кредитную карточку на зуб проверит, но не в этом дело…
Другие люди, вроде меня, тупо думают только об одном — о получении денег. Но согласитесь — трудно поверить, что моим покупателям чего-то недоставало. Я-то знаю, что они могли бы остановиться и не покупать ничего лет пять. Ничего. Даже еды. У них достаточно заморожено.
Мы эти места называли: свободный мир. А тут принято говорить: свободный рынок.
Более того, теперь-то я знаю, что рынок не столько свободный, сколько насыщенный. Такой насыщенный, что меня по этой причине тошнило года два. И не от товаров — товары я ожидала. Гораздо неприятнее было то, что многие мысли и идеи, казавшиеся очень оригинальными и уникальными, высокими и глубокими, — оказались общим местом и банальностью. Рынок идей, он тоже оказался насыщенным до одурения.
Ненасыщенный рынок — он как Потерянный рай. А где-то за пределами Ненасыщенного, в сумерках подсознания, — мистическая легенда, порочный, беззаконный, исполненный опасностями и торговым героизмом черный рынок…
Черный рынок, оборотень! Худой, быстрый, не рекламирующий себя — прячущий, не продавца терзающий — покупателя. Во тьме, в подворотнях, на пустырях… О, я же помню его, помню; вижу в ночных снах! Вот он, над Вальпургиевой ночью барахолки по небу летит в развевающемся плаще-болонье, с Сальвадором Дали издания Скира в одной руке и парой почти неношеных замшевых сапог на шнуровке — в другой! Герой-одиночка, мятежный фарцовщик!