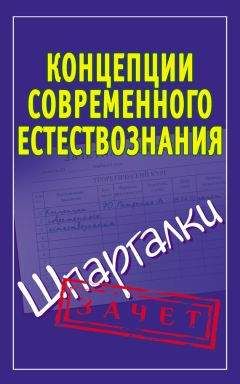Мир всем - Богданова Ирина
Когда в прошлый приезд в Ленинград мы с Раей зашли в Князь-Владимирский собор, батюшка провозгласил: «Мир всем!»
Мир всем… Слова священника плыли под сводами храма, унося душу ввысь, к небу, и понималось, что все людские помыслы, все мечты и надежды крепятся на эти слова, подобно бисеру, нанизанному на нитку — разорвись нитка, и судьбы раскатятся, сгинут, исчезнут в небытие, и никакая могущественная рука не сможет соединить то, что утеряно навсегда.
Попив чай, я вытащила из-под кровати вещмешок и достала оттуда свой единственный военный трофей в виде фарфоровой пастушки. Почему-то при Лене я стеснялась её доставать. Васильковый взгляд пастушки с тем же одинаковым равнодушием взирал на убогую комнатёнку барака, с каким смотрел на руины богатого немецкого дома. Прямой наводкой танк разворотил камин, на котором она стояла. Камни разрушились, а хрупкий фарфор уцелел. Когда вся Россия билась насмерть, а дети в ледяных цехах изготавливали на станках снаряды и бомбы, немцы украшали дома пастухами и пастушками. И всё же статуэтка была дивно как хороша, с кокетливо приподнятым краем юбочки, словно собиралась пуститься в пляс, и чистыми прозрачными красками изящной росписи. Я вздохнула и поставила пастушку на шкаф.
— Ну что, подруга, давай осваивайся, сегодня мы скоротаем вечер вдвоём, а завтра… — Я улыбнулась в предвкушении маленького ожидаемого чуда. — Завтра начинаются каникулы в школе, а у Марка будет дневная смена, и он зайдёт за мной ровно в шесть вечера.
Я не сразу отдала себе отчёт, что живу от одной встречи с Марком до другой. Нет, конечно, я точно так же работала, болтала со знакомыми, решала проблемы, но постоянно, ежесекундно всей кожей чувствовала присутствие Марка. Что бы я ни делала, я воображала его рядом: вот он сидит на задней парте — и я начинала вести урок словно перед экзаменационной комиссией. Вот он в кухне барака стоит и наблюдает за моими движениями — мне становилось стыдно, что я растрёпанная и босая. Вот он идёт рядом со мной на работу — и я начинала замечать голубизну неба, опускавшегося в серую воду Ижоры, и то, как весело и заливисто стрекочут птицы в корнах деревьев. Как я ни оттягивала момент признания, приходилось констатировать, что я влюбилась, и этот факт меня не испугал, а обрадовал.
Каникулы начались ударной работой в совхозе. Нам с ребятами поручили перебирать остатки прошлогодней картошки. В просторном помещении склада холод пробирал до костей и противно пахло гнилью. В отдалённом углу возились крысы, обнаглевшие до такой степени, что не прятались.
— Сколько ни травим — никакого толку, — вздохнув, посетовала кладовщица Полина Андреевна, — сперва я их жуть как боялась, а теперь привыкла. Директор обещала раздобыть несколько кошек, да где их возьмёшь? Кошки нынче на вес золота.
— Мы крыс не боимся, — звонко выкрикнул Коля Леонидов, — папа говорит, на них надо капканы ставить!
— Много что надо, — согласно покивала головой Полина Андреевна, — не всё сразу. А покуда надо рассортировать картошку — гнилой картофан в те ящики, а пригодный в эти.
Гнилых клубней оказалось много. Сердце кровью обливалось при мысли о том, скольких людей порадовала бы эта загубленная картошка, особенно если её пожарить с шипящими шкварками и лучком. Чтобы работа спорилась веселее, мы пели «Эх, картошка объеденье, пионеров идеал. Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал!».
В столовую мои пионеры шли уставшие, но не пищали: знали, что их труд помогает Родине.
— Ух ты, рассольник! Запеканка из вермишели. С сахаром!
Ели так, что за ушами трещало. Я смотрела, как мелькают ложки, и думала, что когда- нибудь, через много лет, уже стариками, они хоть раз, да вспомнят и свою работу в совхозе, и скудный обед, который воспринимался как царский, и меня, скромную учительницу младших классов, оставшуюся в их послевоенном детстве.
Марк обещал зайти за мной в шесть часов вечера. Я несколько раз успела распустить и заново уложить волосы в причёску-пирожок, безжалостно вгоняя шпильки едва ли не в голову.
Погода стояла тёплая, летняя, и я достала единственное светлое платье в мелкий голубой цветочек. Старые стоптанные туфли навевали уныние, но капризничать не приходилось. Зато будет что вспомнить, бодро известила я фарфоровую пастушку и несколько раз повернулась вокруг себя, так что юбка надулась колоколом. Видели бы меня сейчас мама с бабусей! Я вдруг похолодела от мысли, что перестала ощущать их присутствие. Так бывает, когда близкий уезжает на край света, пусть даже навсегда, но ты знаешь, что он есть. А тут как отрезало — их больше нет на земле и никогда не будет! Ни-ког-да. Ощущение потери обрушилось на меня, как швальный огонь вражеской артиллерии, когда не можешь поднять голову, но надо ползти на позиции, и некому помочь и спасти, потому что ты один-одинёшенек посреди минного поля.
Марку я открыла дверь зарёванная и несчастная. Он испугался:
— Тонечка, что случилось? Кто тебя обидел?
Я уткнулась лицом в его грудь и снова разрыдалась, причитая и всхлипывая. Тёплая рука Марка крепко обнимала мои плечи. Он поцеловал меня в макушку:
— Ну перестань. Всё хорошо, я ведь с тобой. Хочешь, я всегда буду с тобой?
Его рука на моих плечах напряглась, и я мгновенно затихла, как мышка, боясь спугнуть его слова, случайно вспорхнувшие с губ. Взглянуть в глаза Марка я не решалась, опасаясь увидеть в них смех. Но он не шутил и повторил чуть громче:
— Хочешь?
Сердце в груди забилось в сумасшедшем ритме. Меня кинуло в жар, а ком в горле перекрыл дыхание так, что я смогла лишь еле слышно прошептать:
— Хочу.
Он не успел мне ответить, потому что с улицы донёсся истошный крик:
— Убили, убили! Помогите!
Мгновенная реакция, отточенная годами фронтовых лет, отбросила нас друг от друга. В мгновение ока мы оказались на улице. Кричала Люда, мать двух мальчишек-сорванцов. Прижав руки к щекам, она бестолково металась по двору и показывала на лавку, где лежал её младший — Климка, девятилетний сорванец, который обладал способностью поставить на уши весь наш барак. По мелово-бледному лицу Климки медленно растекалась кровь из рассечённого лба, а руки безвольно свешивались со скамейки, как у мёртвого.
— Тётя Люда, тётя Люда, я его не трогал, он сам с дерева упал, я внизу стоял! — голосил Климкин друг Санька из соседнего барака. От страха Санька спрятался под стол и в полной панике выглядывал оттуда весь трясущийся и насмерть перепуганный. На зов Люды из барака выбегали жители:
— Что случилось? Кого убили?
— Пропустите. — Марк в два шага оказался рядом с Климом и приложил два пальца к его шее. — Жив.
— Слава Богу! — охнула тётя Паша.
Со своего места я видела только спину Марка и была совершенно уверена, что Клим вскоре встанет на ноги. Если рядом Марк, то ничего плохого просто не может произойти. Он справится с любой бедой, с любой ситуацией. Вновь и вновь я повторяла про себя его короткий вопрос «Хочешь?» и свой робкий ответ: «Хочу».
Марк повернулся и посадил Клима на скамейку:
— Забирайте, мама, своего бойца. Переломов нет, лоб до свадьбы заживёт, но с сотрясением мозга придётся недельку полежать в постели. Я сейчас его перебинтую, а завтра загляну проверить, как дела.
Заметив мой взгляд, Марк улыбнулся, и в глазах его было столько любви, что я зажмурилась от счастья.
Вечер выдался славный. Дневной зной сменился прохладным речным ветерком, задорно игравшим платьями встречных женщин. Лёгкие облака, словно стряхнутые с крыла неведомой птицы, белыми перьями разлетались по синему небу. Мрачная зимняя одежда отправилась в шкафы, и тротуары запестрели яркими летними платьями, по большей части из дешёвого штапеля. Самые большие модницы раздобыли себе белые носочки, которые недавно завезли в универмаг, но торговли хватило буквально на один час. У меня носков не было. Да и пускай!
Стоит ли переживать по мелочам, если рядом идёт Марк и держит меня за руку?