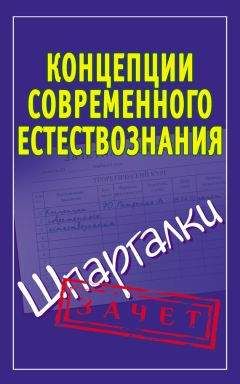Мир всем - Богданова Ирина
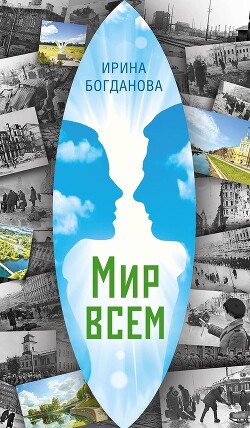
Обзор книги Мир всем - Богданова Ирина
Ирина Богданова — известный писатель, чьи книги ждут с нетерпением, чтобы вместе с героями погрузиться в историю страны, историю жизни, историю семьи, порой запутанную и непредсказуемую. В новом романе решающий поворот в судьбе произойдёт после случайной встречи, а странное письмо заставит многое переосмыслить и посмотреть на мир совершенно иным взглядом.
Но как бы ни было трудно, герои обязательно выберут верную дорогу, даже если в какой-то момент покажется, что она ведёт в тупик.
Ирина Анатольевна Богданова
Мир всем
© Богданова И. А., текст, 2023
© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, макет, 2023
1945 год
Антонина
«Тоня, Тоня, Тонечка…» — выстукивали колёса теплушки по стыкам рельс. В отличие от музыки колёс паровозный гудок не частил, а, медленно набирая высоту, выпевал сочно и густо: «Антонина, Тоня, Тонечка!» Мне нравилось улавливать своё имя посреди умиротворяющих звуков поезда, который нёс нас, демобилизованных девушек, из пекла военных лет в полузабытую мирную жизнь с бодрыми песнями, танцплощадками в парке и восхитительным запахом пирожков в городских буфетах.
Я люблю ездить в поезде! Славно сидеть у окна, прихлёбывать крепкий чай из стакана в подстаканнике, наблюдая, как косогоры сменяются деревенскими домиками, а между частокола берёз проблескивает тёмно-фиолетовая гладь озёр и рек. Неспешно течёт беседа со случайными попутчиками; возле купе проводницы всегда пышет жаром бойлер с кипятком, и непременно в тесном тамбуре в ожидании своей станции курит кто-нибудь из пассажиров.
Но сейчас я ехала не в купе пассажирского поезда и даже не в плацкарте: меня везла в СССР обычная армейская теплушка, насквозь пропахшая запахом табака и угольного дыма. Из немецкого Потсдама мы ехали день, ночь и ещё день, то и дело пропуская вперёд литерные эшелоны и санитарные поезда.
Наша теплушка долго стояла на какой-то станции, тусклой и серой, как мелкий августовский дождь, зарядивший трое суток назад. Правда, сейчас небо понемногу начинало пестреть лоскутами прорех с редкими бликами неяркого солнца. Серебряные лучи насквозь пронизывали тучи и отвесно падали на перрон из мокрой мелкой щебёнки. В осевшее набок здание вокзала дулом воткнулся немецкий «Тигр». Хотя война закончилась два месяца назад, танк не трогали с места, и он остался стоять напоминанием о тяжёлых боях, прогремевших над этим польским городком с замысловатым названием то ли Анрыхув, то ли Анрохов — не разобрать, потому что щит с названием станции перекорёжило взрывом.
Перрон около состава кипел людьми, которые что-то продавали, покупали и менялись. Пассажиры лезли в карманы, отсчитывали деньги или меняли продукты на товар, оглядывались по сторонам и бежали к своим эшелонам, до отказа заполненным солдатами.
Разноголосый шум толпы перекрывали свистки паровозных гудков, шипение пара локомотивов и заливистые переливы гармошки из состава напротив, где тоже ехали домой демобилизованные.
Я оперлась спиной на раскрытую дверь вагона и переступила босыми ногами по нагретому полу. И пол, и ноги по части чистоты оставляли желать лучшего. Зато можно сколько хочешь ходить без сапог, в жару расстёгивать ворот гимнастёрки, и даже — вы подумайте — не отдавать честь командному составу! От этой привычки оказалось отучиться труднее всего, и при виде офицера спина сама собой выпрямлялась, а рука тянулась к виску.
Я подумала, что если захочу, то подойду вон к тому высокому майору, что покупает у старухи яблоки, и попрошу закурить. Обращусь небрежно, как к старому приятелю:
— Товарищ майор, не угостите ли даму папиросочкой?
Я прыснула от смеха, во-первых, потому что я не курю, а во-вторых, потому что придуманная ситуация напоминала сценку из кинофильмов про борьбу нашей доблестной милиции с преступностью и развратом. Словно угадав мои мысли, майор оглянулся, и я смело встретила взгляд его огненно-чёрных глаз.
— Пани, проше купить, — к вагону подошла пожилая женщина с туго повязанными волосами и показала лаковые туфли-лодочки, именно такие, о каких я мечтала перед войной. На глаз был точнёхонько мой размер. Не знаю почему, но мне было стыдно покупать с рук у обездоленных, стыдно торговаться и стыдно носить, зная, что куплено за бесценок. Я помотала головой:
— Нет, не надо!
Но женщина не отставала. Поставив туфлю около моей ноги, она назвала цену, совсем смехотворную.
— Проше, пани, дзети. Мои дзети хотят есть.
Глаза женщины налились слезами, и я не выдержала:
— Подожди, я сейчас.
От сухпайка на дорогу у меня оставалось несколько банок тушёнки, два брикета горохового концентрата и буханка подсохшего хлеба, терпко пахнущего ржаными армейскими сухарями.
Одну банку «второго фронта» — так в войсках именовали американскую тушёнку — я оставила себе на пропитание, а остальное принесла женщине:
— Вот, возьми.
Она сгребла продукты одним жадным движением, как долго голодавший человек:
— Дзякуе бардзо.
От резкого поклона ворот её блузки распахнулся, обнажив молочно-белую шею с крупным золотым кулоном в виде капли.
У моей мамы тоже был золотой кулон, но из писем на фронт я знала, что мама отнесла его в церковь, когда Ленинград собирал деньги на танковую колонну. А потом мама умерла от голода. Я сглотнула набежавшие слёзы.
И мне сразу стало противно смотреть на лакированные туфли, купленные у польки с золотым кулоном. А может, её украшение — это память? Последняя память о дорогом человеке, бережно хранимая до самой смерти? Я оборвала свои мысли и оглянулась на девчонок, ехавших со мной в одном вагоне. Наташка, с которой я успела подружиться, оторвалась от чтения газеты «Звезда». Газеты мы ценили на вес золота и передавали их из рук в руки, пока не зачитывали до дыр.
— Антонина, никак ты хрустальные башмачки прикупила? Дашь примерить?
— Я ещё сама не меряла! — Я покосилась на грязные ноги и пошевелила пальцами. — На следующей станции встану под колонку, вымоюсь как следует и примерю.
Наташа хмыкнула:
— А я только что искупалась. Зря ты не пошла с нами на пруд! Вода хоть и мутная, но приятная!
Наташа потянулась к туфлям, рассмотрела мою обновку со всех сторон и щёлкнула пальцем по подошве:
— Ой, девчонки, смотрите, подошва-то картонная!
— Как? Как картонная?
Сорвавшись со своих мест, девушки окружили Наташу, и их возгласы колокольцами рассыпались по вагону:
— И впрямь картонная! Ну надо же! Вот жулики!
— Тонька, давай найдём ту тётку и всыплем ей по первое число! — уперев руки в боки, выкрикнула связистка Катя. Её тёмные глаза зло сощурились. — А как кланялась, как кланялась! Про детей рассказывала. Аферистка! Давить жульё надо, как вшей давить! Мы за них кровь проливали… Я на гражданке сразу в милицию пойду проситься! — Она крепко сжала кулак. — Ух, ненавижу! Тонька, и ты не давай им спуску! Пошли на розыски! Надаём ей туфлями по морде!
— Не пойду, Катюша. Да и поезд вот-вот тронется. Отстанем от эшелона, как догонять?
С высоты вагона я посмотрела на кипящую толчею перрона и внезапно поняла, что устала. Устала трястись в теплушке, устала спать на нарах, устала разговаривать с девчатами — ничего не осталось из чувств, кроме усталости. Наверное, так действует послевоенное время, когда разрывы снарядов внезапно сменяются нереальной гулкой тишиной, внутри которой слышно зудящее жужжание шмеля на цветке, и хочется сидеть и слушать его, не шевелясь и не рассуждая о смысле жизни.
Наташа протянула мне туфли:
— Ты их возьми, не выбрасывай. Верх-то хороший. В Ленинграде тебе любой сапожник подошву приделает. Наденешь, пройдёшь по улице королевой — все женихи к ногам упадут!
— Да ну их, женихов. — Я сунула туфли в вещмешок и завалилась на койку, думая о том, как он встретит меня, Ленинград, ещё далекий, но всегда близкий.
Ночью налетела гроза. Со своей койки напротив узкого окна под потолком я видела белые вспышки молний, похожие на разрывы фугасных снарядов. Всполохи на несколько мгновений освещали ряды нар в теплушке и крепко спящих девушек. Санинструктор Надя спала на спине, раскинув по сторонам руки; радистка Марина свернулась калачиком; у суровой заведующей аптекой медсанбата Раисы Васильевны русая коса свешивалась до полу.
«За всю войну отсыпаются», — подумала я вскользь, памятуя о горячих днях наступления, когда не то что поспать — глоток воды не удавалось сделать. Крепко вбитая в душу война не отпускала, то и дело прокручивая в мыслях отгремевшие бои и минуты затишья.