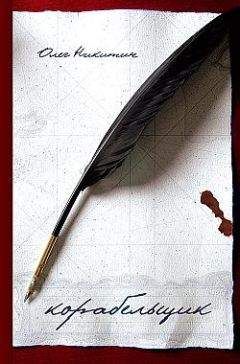Юз Алешковский - Карусель
— Мне ответить или сами скажете? — спросил я, чувствуя, извините, дорогие, какое-то удовлетворение от беседы со своим умным врагом, а может быть, и не врагом, черт его знает, он же на службе, в конце концов. Я знаком с одним полковником, который, как мальчишка, болеет за диссидентов, любит Сахарова, читает запойно Солженицына, а работает замначальника политуправления армии.
— Я вам скажу. Вы пришли поторговаться.
— Хорошо, — говорю. — Уверен, что мы пойдем друг другу навстречу. Можете считать это желание непременным свойством еврей-ской натуры. Я пришел поторговаться.
— Не считаю. Говорю это для того, чтобы не показаться идиотом. Я знаю, о чем вы попросите.
— Не убежден, — сказал я.
— Зря. Я профессионально узнал о вас все, что можно было узнать. Все. Хотя знание такого рода никогда не может быть исчерпывающим.
— Как вас звать прикажете? — спросил я.
— Семен Петрович. Дабы вы не думали, что я тонко ловлю вас на пушку, скажу следу-ющее: стопроцентной уверенности в правильности догадки у меня быть не может. Верно? Верно. В общем, вы хотите, чтобы Пескарев тоже получил разрешение уехать?
— Да, — сказал я. — Хочу. — И покраснел, как уличенный в хитрости пацанчик.
— Вот это мне нравится. Не люблю, когда долго думают над ходами. Играть так играть.
— Херово только, — не удержался я, — что больно все вы, включая ваше высшее начальство, заигрались. Подменили интерес к жизни интересом игровым. И плевать вам на все судьбы человеческие и мировые из-за любви к судьбе вашей игры и вашей команды.
— Знакомые мысли. Но ведь вы тоже, Давид Александрович, не будучи политиком, дипломатом и контрразведчиком, начали с игры. Не правда ли?
— Правда. Но я только отыгрываюсь, в отличие от вас. И эту игру паршивую навязали мне если не лично вы, то ваши игровые органы. Не могу не думать о судьбе друга.
— Не заставлю вас ждать. Ход наш готов. Пескарев может получить разрешение. Нами задержан вызов, который вы ему «сделали». Завтра же перешлем. Тут сложностей не будет. Остается главное. Это уж вы берите на себя.
— А если он откажется?
— Мы пресечем любыми средствами его враждебную СССР так называемую правозащитную деятельность. Вас я считаю человеком заблуждающимся. А Пескарев — враг. Озлобленный и умный враг.
— Вы, я вижу, хороших и сильных игроков считаете своими врагами.
— Приятно побеседовать с неглупым человеком. Чем скорее вы подадите документы в ОВИР, тем будет лучше, — сказал Семен Петрович. — Согласитесь, что наперекор всем вашим мрачным пророчествам страна наша прогрессирует и в области права. Тридцать лет назад эта беседа протекала бы у нас по-иному.
— Это верно, — говорю, — но вы ведь об этом прогрессе говорите с сожалением. Чего уж там? Ведь легче было бы врезать мне пресс-папье по макушке, чем торговаться. А если вы сожалеете о невозвратных временах, значит, не от силы собственной, благородства и уважения перед законом ведете вы со мною беседу в таких рамках, а от страха, слабости позиции, растерянности и зависимости. Хотя мне тоже было приятно поговорить с неглупым человеком. Может, еще Председателем Совета Министров станете.
— Я позвоню вам сам. До свидания, Давид Александрович.
Честно говоря, не знал я, как отреагирует Федор на мое предложение. Но не мог я не предложить вырваться из этого темного леса человеку, за которым следят, знают, что он заварил кашу с историями болезней диссидентов, человеку, отсидевшему свое и не реабилитированному, то есть, по их мнению, озлобленному антисоветчику. С этого я и начал, но долго не рассусоливал. Так, мол, и так. Отстать они теперь от тебя не отстанут и покоя из мелкой крысиной злобности не дадут. Не посадят, так затравят. В общем, решай, говорю, Федор.
— Решать нечего. Остаюсь. Некуда мне ехать, — сказал Федор, и больше мы на эту тему не заговаривали.
Я, продолжая спешить, крутил роман с Таисьей и чуял, что пора совесть знать. Пора или расставаться, или без последних трусиков остаться. И однажды сижу я, ужинаю, в глаза стараюсь не смотреть Вере и думаю, что вот приходит пора, когда к жене начинаешь относиться как к сестре и к матери и ничего с этим не поделаешь, дошла до подобного грустного факта наша жизнь. Да и Вера после своих болезней, после смерти Светы перестала испытывать ко мне интерес. Ляжет в комнате, смотрит в потолок, вздыхает и рано спать ложится. Сижу я и ужинаю, черт знает какую дрянь мучную с морской капустой и с томатом уминаю. И вот Вера говорит мне:
— Вчера звонил какой-то человек. Он сказал, что ты живешь с Тасей. Я понимаю, что они хотят меня расстроить и доконать.
— Что ты им ответила? — спросил я.
— Я сказала, что сама обо всем знаю и что у моего мужа, слава богу, своя голова на плечах. Если он спутался с бабой, то ему виднее. Значит, так надо.
— Вера, — говорю, — не прощай, но не вини меня. Больше ничего тебе не скажу. И давай собирать вещи. Давай повеселеем, а то в нашем доме уныния столько, что хоть топор вешай.
— Ты-то не унываешь, — сказала Вера. — Но я тебя прощаю. Не знаю почему, но прощаю. Это сильней моей обиды и унижения. Просто жизнь кончилась для меня раньше, чем для тебя. Пока ты разгуливал, я собрала все документы.
Боже мой, как я тогда плакал по-детски и, наверное, по-еврейски. Я сел на пол, плюнул в морскую капусту и заревел от всего вместе: от плюгавости органов, собственного несвоевременного свинства, от близости отъезда, Таисьиной любви и страсти и, конечно, от вины, стыда и великодушия Веры жены моей единственной, состарившейся на плече моем, под рукою моею, в сердце, боже ты мой, моем.
— По-моему, ты ударился в детство, — сказала Вера. — Со старыми пердунами это бывает. Иди ложись спать. Завтра мы идем в ОВИР.
Я выпил стопку водки и поплелся спать. Засыпая, я слышал, как Вера говорила по телефону Вове:
— Нет худа без добра. Теперь мы уедем все вместе.
Мы в Москве. Я уже писал про новую свою квалификацию упаковщика-отправщика еврейского и прочего перелетного багажа. Ждем разрешения, ждем, должно оно было как будто быстро последовать, а вот нету его, и все. Торопиться некуда, повторяю, но душа временами взбрыкивалась, не терпелось ей, видно, в новое странствие. И из-за Федора она ныла. Ноет, ноет, ноет, так что иной раз срывался я на электричке в наш город и бежал к Федору, а потом мы оба шли к Таисье, выпивали там, беседовали, и мечтал я, как полный мудозвон (непереводимо), очутиться вот так втроем где-нибудь, скажем, на берегу Тивериадского озера или в Нью-Йорке вашем, сидеть там за столиком, щурясь на солнце и не спеша присматриваясь к странному образу заграницы. Мечтал. Но не думайте, что Федор был поводом для свиданки с любовницей.
Ну а вскоре понеслись все события, как пьяные зайцы с горы. Разрешили. Не могу сейчас вспоминать суету, какие-то покупки, волынку, грандиозное прощание, которое я устроил на всю полугодовую пенсию и напоил весь свой цех. Ночью пробрался на завод, лобызался, пьяный, со своей старой каруселью, лоб горячий на холодную станину, как на могильную плиту, опустил, слова говорил, слезу смахнул, вдохнул кисловатинку железного воздуха цеха, стружки завиток, моренной во всяких маслах и эмульсиях, в карман положил. Я проработал тут всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И я сказал спьяну старой моей карусели:
— Прощай. Крутись. Может, еще свидимся. Мало ли что бывает. Может, мы еще дадим раскрутки.
Вера больше из Москвы не уезжала. Ей не с кем было прощаться в нашем каменном городе. С булыжниками она уже простилась.
Таможню я все же надул под конец. За две недели до отъезда подал заявление в милицию, что у меня в метро из портфеля украли коробку с орденами и медалями. Взял справку об этом. А погремушки свои дорогие, заработанные кровью и потом, хоть они теперь в глазах детей и политруков ничего не значат, я притырил, будьте уверены, так что ни одна падла шмональная носом не повела. Нет еще у них таких носов и приборов…
Сели в самолет. Летели. Прилетели. Сном это было во многом. Сном. Я еще напишу об этом, если соберусь сочинять роман о всей своей жизни в лице иного героя или воспоминания, которые Федор посоветовал мне назвать «Отсебятина».
Эти строки я пишу, сидя на скамейке в Венском парке. Напротив меня композитор Брамс, рядом — Федор. Моя Вера, дети и внуки уже в Иерусалиме. А мы с Федором живем в отеле «Три кроны». Ждем визу в Штаты. Отношение к нам везде прекрасное. Я иду по еврейскому фонду, а он по толстовскому.
Не удивляйтесь, но Федора все-таки поставили перед выбором: или тюрьма — и из нее уже не выйти, — или отъезд. И Федор, к нашей общей неожиданной радости, прислушался к судьбе, повеселел и собрался буквально за неделю. Посмотрим, говорит, в конце-то концов белый свет, чтобы подыхать было не обидно. В крайнем случае можно и повеситься от той же тоски.
Так вот, сижу я в большом таком сквере, недалеко от Венской оперы. Напротив меня — композитор Брамс, серо-мраморный, рядом — Федор, живой и невредимый. Я отправил счастливую после всего пережитого семью в Израиль, а сам дождался Федора. Я лично хочу по прибытии в Штаты ознакомиться с жизнью и трудом рабочего класса на большом заводе. Мне радостно думать, что я и белый свет немного повидаю, и махну потом к своим. Туда, где произошло в давнем времени первое колено моего существа. Не знал я прежде этого чувства, этого нежнейшего волнения ожидания возвращения к тем краям, где я был и никогда не был, не по своей вине став блудным сыном. Разве не молодо и не странно думать о фартовой масти (удача), выпавшей вдруг на долю именно мне, одному из многих сгинувших в свой час или от преждевременного насилия на чужбине, но не переставших мечтать о возвращении? А ведь я лично, не буду лукавить, не мечтал об этом, не хотел ехать, вы это знаете, сопротивлялся, но проняло-таки и меня властное чувство истинного родства. Проняло. Не я его искал. Оно меня нашло. Потому что я плохой, с точки зрения моего сына Вовы, еврей, думающий только о себе в сегодняшнем своем облике, а не о тех, которые мне наследовали, по его, Вовиному, биологическому разумению, каждую клеточку, каждый ген своего тела, с тем чтобы все они по воле моей судьбы возвратились наконец к окаменевшим от ожидания живым стопам Отечества и умиротворенно припали к ним после тысячелетних блужданий, в моем, точнее будет сказать — в своем наипоследнейшем образе.