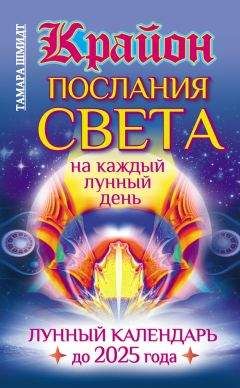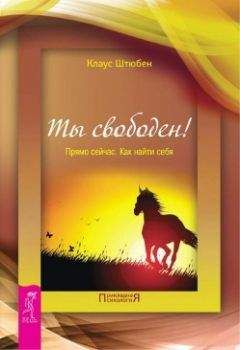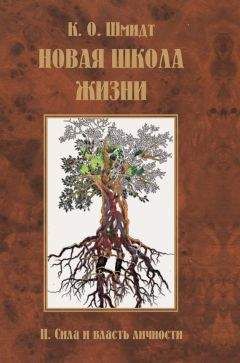Робер Андре - Дитя-зеркало
Крестный, надевший по этому случаю матросский берет, который придавал ему неуместную простоватость, удостоил нас чести быть приглашенными в лодку. Торжественный акт водного крещения не смог, однако, успокоить бабушку, которую страшно напугала качка, а также несоответствие между крохотными размерами нашего суденышка и бескрайностью окружающей нас реки. Вцепившись в планшир, она не переставала предрекать нам катастрофу, приводя в поддержку себе все несчастные случаи, о которых сообщалось в местных газетах, и на твердую землю она ступила с видом потерпевшей кораблекрушение.
Ее отвращение к речным прогулкам оказалось мне на руку, потому что крестный стал брать с собой на рыбалку только меня одного. Он, как и я, чувствовал себя счастливым здесь, между небом и водой, которая так легко несла его безжизненную ногу; к тому же, когда он сидел в лодке, особенно заметной становилась стройность и гибкость стана этого бывшего фехтовальщика. Выбравшись на середину реки, мгл выключали мотор и, закинув удочку без поплавка, отдавались на волю течению, вслушивались в тишине, как плещется о борт волна, как выпрыгивает из воды рыба, как кричит где-то птица. Его лицо становилось задумчивым, он словно погружался в мечты, и, хотя ни слова не говорил о них, я ощущал их где-то рядом, и мне было хорошо от такого соседства.
Больше всего мы любили удить возле лесистого островка, делившего реку на два неравных рукава, в более узком — течения почти совсем не было, он густо зарос кувшинками, водорослями и камышом. Мы закидывали здесь, среди всех этих трав, удочки с пробковыми поплавками, тоже, впрочем, без особого успеха, да нам и не нужно было никакого улова, нам просто было очень хорошо здесь, на краю света, между островком с этими непроходимыми зарослями и берегом, где в тополях пели дрозды и сойки, разнося по округе весть о нашем прибытии. Лодка двигалась — медленно и равномерно, нас клонило в сон, веки почти смыкались, и сквозь ресницы мелькали двойственные пейзажи, где отражения тополей и облаков на тихой глади вод переплетались с причудливыми очертаниями водяных стеблей и листьев, с насекомыми, с гнилыми обломками веток и с множеством всяких прочих предметов, которые, оказавшись в воде, постепенно теряют свою исконную форму и становятся совершенно неузнаваемыми.
Это ленивое блаженство тянулось до наступления сумерек. Потом воздух становился прохладней, а вода и деревья наливались густеющим мраком; казалось, кто-то вдруг переключил источник света, и в самом деле, предзакатное солнце, уже невидимое за лесом, покидало сине-зеленые небеса, их отражение словно бы отдалялось, отступая в глубину, и тяжесть нависавших над нами ветвей и листвы становилась весомей и гуще, тени их дрожали на воде, и вдруг все это пространство, где неразличима была грань между воздушной и водной средой, затягивалось каким-то странным туманом, который становился все плотнее, его призрачная белизна беспокойно шевелилась, точно чья-то бесплотная тень порывалась сгуститься и стать привидением. Душевный покой уходил. Мной овладевало смутное ощущение заброшенности. Каждую секунду что-то могло произойти, тем более что река и берег, до сих пор цепеневшие в неподвижности, начинали пробуждаться к ночной жизни: глухо вскрикивали скрытые в листве птицы, сухо шелестел, пропуская какого-то невидимого своего жильца, камыш, всплескивала крупная рыба, тяжко плюхалась в воду утка или крыса, все кругом двигалось, возилось, металось — и ничего не было видно. Болотные запахи становились слышнее, туман по-прежнему размахивал саваном, гоняясь за самим, собой…
Крестного все эти тайны как будто трогали мало, ему просто нравилась природа как таковая; он не спеша сматывал снасть, потом поднимал палец и говорил:
— Смотри хорошенько, слушай и не шуми. Может, нам удастся увидеть выдру.
Ему очень хотелось увидеть пушистую разбойницу, славившуюся своей поразительной хитростью. Забыв о недавних страхах, я вслушивался в ночь и таращил глаза, но вокруг все было черно и туманно. Однако я ощущал благотворность этого сторожкого ожидания, оно смягчало окружающую нас враждебность, и я еще сильнее напрягал зрение и слух, стремясь обязательно что-то увидеть, разглядеть ночную охотницу; все, что обычно говорилось о ней, о ее гибком и блестящем теле, вызывало в воображении нечто, всегда от тебя убегающее, ускользающее из рук, от глаз, что только неуловимо и призрачно мерцает в темной воде. И наконец наступает мгновенье, когда кажется, что невидимая возня стала вдруг яростней, что кто-то в дикой панике метнулся под водой, недолгая погоня, вдали что-то глухо шлепнулось, что-то мелькнуло, придушенное сетью тумана, только он и может ее схватить, ее, которую не схватишь, и я кричу с бьющимся сердцем:
— Это она, вон там, я видел ее!
Крестный, конечно, не верит, но, соучастник моих детских радостей и сам немного ребенок, он улыбается и шепчет:
— Ну/ Что я Тебе говорил. А ведь мало кто может похвастаться, что видел ее.
Я очень горд. Мы возвращаемся на веслах, чтобы немного согреться, а за нами, за снова сомкнувшейся синевато-стальной гладью реки, ночь окончательно поглощает остров. Скоро перед нами из темноты проступает причал и мы различаем силуэт бабушки; она всегда поджидает нас на берегу, как ждут возвращения своих ушедших в открытое море мужей бретонские рыбачки.
— Слава тебе господи. Приехали наконец.
Она страшно переволновалась, из-за всех этих наших сумасбродств она наверняка нажила бы себе болезнь сердца, если бы оно и без того не было у нее больным… Сын с бесконечней усталостью выслушивал ее жалобы и упреки. Я думаю, он хотел одного: чтобы наконец перестали и на твердой земле обращаться с ним как с ребенком, но куда, да еще с проклятым увечьем, денешься от этого обожания, от этой любви?
— Знаешь, я видел выдру! — бормотал я, уже наполовину сморенный сном.
— Что ж, очень может быть! — отвечала бабушка, готовая поверить всякому чуду.
Мне хотелось бы привести ей неопровержимые доказательства своей правоты, но я уже сплю.
Сюрпризы Перигора, где опять мы встречаем живую изгородь и волка…
Может быть, и вправду оно было лишь остановкой на обочине текущего времени, это короткое воспоминание, которое я. даже не могу точно датировать и которое плывет в потоке картин и образов, точно обломок ветки, уносимый рекой возле острова с выдрой. Эпизод окутан ощущением свежести, чем резко отличается от всех предстоящих мне впоследствии летних каникул. Этого простого счастья мне уже больше не дано знать. Золотой век остается позади— я прибегаю к этой священной формуле потому, что на всем, что происходит со мной после каникул в Карнаке, лежит отсвет грусти и сожаления, и, шагая вперед по путям своего рассказа, я то и дело оглядываюсь назад, как человек, который против воли покидает родные места… Я буду еще сожалеть о прошедшем, и даже не под воздействием тога общеизвестного миража, который преображает всякое детство в поэзию — когда я прочитаю эту фразу Ренана, она заставит меня о многом задуматься — я буду сожалеть о прошедшем из страха, мне будет страшно вернуться туда, где в наше отсутствие зрели грозы, чтобы потом обрушиться на нас всей своей мощью. В этом есть какая-то тайна. И она тревожит меня.
Куда мы поедем? И где мы уже побывали? Время сворачивается в клубок и перемешивает сезоны. Первый из этих двух вопросов начал обсуждаться еще задолго до каникул, вызывая ожесточенные споры, если не сцены. Нужно было соблюсти слишком много условий: здоровье мое, здоровье мамы, наше общественное положение… А здоровье отца? Это четвертое условие, слава богу, не осложняло и без того запутанную проблему. У отца в годы моего детства было лишь две недели короткого отдыха, и ему надо было лечиться от других болезней. Летние разлуки — предвестие иной разлуки? — быстро вошли в наш обиход, со всеми их выгодами и неудобствами. Отец будет торопливо залечивать свои желудочные недуги в некоем департаменте, обычно весьма отдаленном от мест, где врачи будут вести безуспешную борьбу с моей астмой и с теми неясными недомоганиями, па которые все чаще будет жаловаться мама, начиная от нарушений кровообращения-до подкрадывающейся тайком полноты, не отступающей' перед самой строгой диетой. Все это с роковой неизбежностью будет вынуждать нас ездить на курорты и воды — этим отмечено все мое отрочество — и лечиться там по совету и под общим наблюдением нашего бородатого авгура-южанина. Меня удивляет, что мы так долго не теряли к нему доверия, ведь он ни разу ни от чего нас не вылечил; но может, это и было главной причиной, по которой мы ему доверяли? Люди чувствуют себя обманутыми, если врач не находит у них ни одного из недомоганий, на которые они жалуются. А профессор всегда все находил.
Быть может, ему-то я и обязан теми необычными каникулами, подобных которым у меня уже больше не будет. Относятся ли они к тому самому году? Утверждать не берусь.