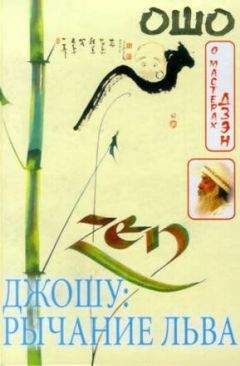Александр Гончар - Тронка
— Ясочка наша.
И Уралов охотно соглашался:
— И правда, ясочка!
Хотя и не совсем понимал, что оно такое «ясочка».
Было в самом деле удивительно: вот только что родилось, а уже стало главенствовать здесь это самое юное существо, хрупкий росточек жизни, эта крохотка-несмышленыш Аленка! Уже с самого рождения ее окружали нежность, трогательная забота и любовь. При одном упоминании о ней лица бойцов становились мягче, слова ласковей, и не было здесь человека, на которого бы не распространялась ее власть — власть любви!
Когда впервые дитя улыбнулось, это стало событием, сенсацией на весь полигон. Все бегали к Уралову на квартиру поглядеть Аленку, козыряли, отдавали ей честь и в последующие дни тоже не переставали бегать на квартиру за ее улыбками. Старшины-сверхсрочники подставляли ей лицо, чтобы поймала за ус, молодые солдаты были в восторге, когда она схватит кого-нибудь за ухо и подергает, пощекочет своею ручонкой.
Про Уралова уже и говорить нечего. Он с рождением дочки стал просто неузнаваем — не таким категоричным во всем, как прежде, разговорчивее, приветливее. Улыбки дочки, детские нежные прикосновения к щеке словно бы проникали в самую его душу и влияли на нее чудодейственно. Он не стыдился собственноручно стирать пеленки — более того, проделывал это с таким видом, будто совершал какой-то торжественный и важный ритуал.
— Разве ж не диво, Галя, а? — склонялся он над кроваткой, прибежав со службы. — Еще не говорит, а уже умеет смеяться. Сплошное доброжелательство: всему на свете улыбается.
Это была просто идиллическая картина, когда под вечер Ураловы выходили прогуляться. Он, которого и полигонный загар не брал, бледный, вечно взволнованный, нес Аленку на руках, а его полненькая ясноокая Галя семенила рядом, не в силах скрыть радость своего благополучия. Это были истинно счастливые супруги, как бы созданные друг для друга, даже ростом одинаковы, небольшие оба, — они проходили не спеша мимо КП и шли в открытую степь. Все знали, что Уралов понес прогулять, развлечь дочку, так как ему казалось, что ей уже хочется каких-то детских развлечений, и он жалел, что на полигоне нет чертова колеса или карусели, а есть лишь блестящие острия ракет в степи — единственное, что только он и мог показать своей любимой дочке. Еще, правда, были в степи, кроме ракет, спортивный «козел», «кобыла», волейбольная площадка и старая облупленная овчарня, оставшаяся на территории полигона от тех времен, когда полигона еще не было, а земля вся принадлежала совхозу. Была рядом с овчарней и хата чабанская, она тоже облупилась, саманом светила — развалина такая, что, кажется, и Аленку отпугивала своей драной крышей и провалами окон. Осматривая эти полуразрушенные остатки чабанской эры, Уралов давал волю своей фантазии, рисовал перед дочкой и женой шутливые картины своего будущего, когда Аленка будет уже большой и вместо полигона тут снова будут владения совхозных чабанов, а он, Уралов, станет тогда главным пастухом, взберется вон на ту вышку, где теперь КП, и с ее высоты будет руководить отарами, наблюдать за овцами в стереотрубу.
Посмеявшись над этой выдумкой, они отправлялись дальше, приостанавливаясь около высокой, нацеленной в небо ракеты. И им казалось, что их ясочка не сводит глазенок со сверкающей махины, с этой огромной игрушки, и какие-то первые знаки уже запечатлеваются на пленке ее сознания, чистой и непорочной, как утренняя зорька. От ракеты не спеша шли они туда, где седеют древние могилы. Уралов считал, что дочка лучше всего себя чувствует на степном кургане, где был установлен локатор. Здесь свежий ветерок обдувал Аленку, она оживлялась и будто с любопытством наблюдала, как локатор, медленно вращаясь своим обручем, бросает подвижную тень на травянистую глобальную выпуклость кургана. Это была пока что и вся Аленкина планета, на ней не было ничего, кроме серебристой полыни да локатора, который должен был служить ребенку развлечением.
Все было бы хорошо, если бы не ночи. По ночам Аленка спала плохо. Случалось, что ни Гале, ни Уралову не удавалось прилечь и на минутку, ребенок криком кричал всю ночь напролет. Детский плач слышали и полигонные часовые, но никто ничем не мог помочь. Галя в отчаянии обливалась слезами, а Уралов, стиснув зубы, метался из угла в угол, не находя себе места, — душу ему разрывал Аленкин мучительный крик. Воин, солдат, он не признавал раньше нежных, ласковых слов, нередко посмеивался над Галей, а тут и сам научился.
— Ну, что болит у тебя, доченька, что? — припадал он к ребенку. — Животик? Головка? Скажи! Ну покажи, где болит?
А дочурка только смотрит на него глазенками, затуманившимися от боли, ранит его своим криком: помоги! Ты же сильный, а я беспомощна! Вас много, взрослых, а я одна…
Только под утро, когда всходит солнце, Аленка перестает плакать, успокаивается, а немного поспав — расцветает улыбкой. И так день за днем, ночь за ночью: днем успокоится, а только наступит ночь — ребенок в плач, даже синеет, заходится от крика.
Стал привозить Уралов из города врачей, лучших специалистов. Все осматривают, а ничего особенного не находят, поставить диагноз не могут. Это, говорят, что-то такое случайное, временное, а так ребенок здоров. Чтобы как-нибудь развлечь дочку, Уралов купил в военторге аккордеон, дорогой, роскошный, хотя играть на нем совсем не умел. Учился теперь, упорно упражнялся ночами, старательно растягивал эту чертову кожу. А когда уставал, в полном изнеможении швырял инструмент в угол, отстранял от девочки опухшую от слез жену, сам наклонялся над крохотным тельцем, боровшимся за жизнь, и молча принимал на себя ее боль, ее крик, хватающий за душу дочкин плач. В одну из таких ночей, доведенный беспрестанным криком ребенка до беспамятства, Уралов бросился к машине, завел и помчался в совхоз к Чабанихе — незадолго до того он слышал, что есть там такая бабка Чабаниха, мать капитана, которая травами лечит, — народная медицина, и все такое… Где она живет, точно он не знал, только приблизительно представлял приметы, поэтому жадно разглядывал иероглифы телевизионных антенн над домами, искал металлическую вышку — по этим иероглифам да по вышке и разыскал он Чабанихину хату. Забарабанил в окно. Старуха появилась на пороге, как призрак, как видение прошлого: растрепанная, скуластая, губы сжаты, под нахмуренными бровями — ямы глаз… Колдовское непроницаемое лицо Пифии, Сивиллы, но оно как раз чем-то внушало доверие: эта поможет, эта спасет! Как горячо он ее умолял — та поначалу упрямилась, говорила, что давно уже перестала этим заниматься.
— На колени упаду, землю буду есть, только поедемте, помогите! Век буду благодарить!
В конце концов уговорил, подхватил в «газик» и помчал ее в свою ракетную степь. Когда проезжали мимо ракет, уже рассветало, ракеты сияли своими оболочками, но бабка как будто и не видела их, даже не оглянулась ни разу в ту сторону. Осмотрела ребенка, только что заснувшего, измученного после бессонной ночи, буркнула, что это не «сглаз» и не «младенческое» и что у нее нет против этого средства. Просто, по ее мнению, не подходит ребенку это место, не для него такие игрушки и грохот…
Аленке становилось все хуже. Однажды ночью, когда Уралов был на КП, из дому позвонила жена. Он слышал, как она всхлипывала в трубку, и жизнь в нем остановилась, холод смертельной тоски вступил в грудь.
— Коля, быстрее! Аленке совсем плохо… Посинела, глазки закатываются…
А когда он прибежал домой, уже не закатывались глазоньки, уже не кричала его доченька: вечная чистая улыбка застыла на ее устах.
Она еще лежала в белой своей постельке, а возле нее на полу валялся аккордеон, хищно сверкая зубами клавишей. Жена билась на кровати в рыданиях. Охотничье ружье висело на стене. Стоял на столе полевой телефон. Все было как раньше, не было только ее, Аленкиного, дыхания, была лишь бесконечная всесветная пустыня вокруг. Каждая вещь ранила его. Подавленный, ослепленный горем, выскочил он во двор, но рыдания Гали снова вернули его в дом.
Утром весь полигон был в трауре. Ветер развевал над казармой красные флаги с черными лентами. Потрясенные трагическим концом, офицеры, солдаты о чем-то шепотом переговаривались между собой, советовались. Оказалось, что никто не мог сделать гроб. Люди, которые разбирались в электронике, имели дело с точнейшими приборами, картами, расчетами, не умели смастерить простой маленький гробик для ребенка! Потому что в этом никогда не было нужды. До сих пор здесь никто еще не умирал. Казалось, что тут все собрались для вечной жизни. И кладбища на полигоне не было — это была у них первая смерть. Все она начинала, Аленка. Только оркестр был свой да флаги черно-красные склонялись скорбно.
Траурная музыка зазвучала над степью, и бомбы в тот день не рвались.
Похоронить Аленку решили на том самом кургане, где стоял прежде радиолокатор. Теперь его там уже не было, солдаты выкопали на кургане для своей любимицы маленький окопчик. Туда шла по степи вся процессия. Офицеры молча несли Аленку над головами, несли ее по своей ракетной степи, между боевыми мишенями, сквозь их настороженный, грозный блеск, а девочка, проплывая, улыбалась и сейчас. Она уходила от Уралова в вечность со своею улыбкой, с ее непередаваемым очарованием и как бы говорила ему: «Папочка! Я не видела ничего, кроме этих твоих ракет. Не видела весен. Цветения вишенного не знала. Ни синих рек, ни городов далеких, сказочно-прекрасных. Я успела увидеть только эти грозные блистающие ракеты, среди которых и прожила свою маленькую жизнь. Короткою жизнью зарницы жила я. Появилась, осветила улыбкой ваш полигон, сверкнула разливом счастья тебе, папочка, и маме, и вот теперь я иду от вас, ухожу от вас навсегда!..»