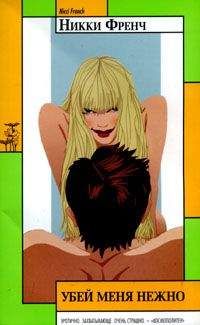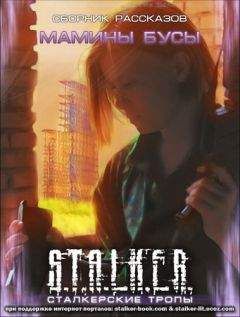Александр Торопцев - Охрана
Трезвый был в тот вечер техник, но сдержать себя не смог. Раскричался, перенервничал, зачем-то на кухню побежал, сковородку увидел на столе с остатками яичницы (он и сам яичницу любил по вечерам со стаканом чая), схватил ее, чугунную, но не успел пустить изделие местного завода в дело: мужик оказался шустрый, вылетел из квартиры мигом.
Всю ночь пил техник клюковку, настоянную на спирту. Уснул под утро носом в стол рядом со сковородкой. На службу не пошел, клюковки у него было много. Да и спешить-то куда, зачем? Командировочное удостоверение отмечено по среду включительно, а был еще только понедельник…
Как поладил техник с женой – не о том речь. Тут сам черт ногу сломит в этих душевных зарослях. Но после этого случая трезвенник-техник запил по-черному, благо спирта хватало, а уж о клюковке он и думать перестал. Какая тут клюква! Жизнь наперекосяк. Махнуть бы стопку, сбить стыд да на работу. Вот ведь какая незадача иной раз приключается с робкими людьми! Неробкие безобразничают, чужие простыни мнут и хоть бы что – ходят гордые по белу свету, и пить им не надо, и никакая краска их довольные лица не портит. А робкий, чтобы не раскраснеться на людях, да голос не потерять, обязательно спиртику должен махнуть перед выходом на улицу. Будто это они во всем виноваты, робкие.
До сковороды дело у техника дошло не сразу. Год он терпел, спиться успел, в старлеях застрял, страх потерял (но не совесть), и однажды (щеколду-то он свинтил с двери!) повторилась спальная история с точностью до сковороды с яичницей недоеденной. Тут уж техник медлить не стал, а может быть, «другой», которого в этот раз нашла жена, скорость потерял с устатку или руки у него тряслись с непривычки – молодой совсем парень был, только-только авиационно-техническое училище окончил. Не повезло ему, неопытному. Месяц в части и сразу в чужую постель. И по голове, аккуратно стриженой, сковородкой с размаху получил, холодной. В чем-то ему, конечно, повезло. Техник, хоть и в ярости был, но бил по его голове обдуманно: хоть и сильно, но не ребром, а, если так можно сказать о сковородках, тыльной ее стороной. Кровь была на голове и сотрясение мозга средней тяжести, и шов врачи наложили ему в тот же вечер. Короче, все чин-чинарем. Но могло быть и хуже. Лоб-то молодого офицера, хоть и крепкий был, мог и не выдержать, ударь по нему ребром сковородочным. Да и недалеко ото лба до висков, правого и левого.
Нехорошее это было дело в одной из воинских частей ВВС, дислоцирующейся под Калинином. Начальство, понимая всю сложность и неоднозначность ситуации, нашло, по всей вероятности, единственно верный ход. Молодого ловеласа перевели в другую часть, подальше от европейской части страны, а робкого техника – какой он был прекрасный спец! – комиссовали – не стали выносить сор из избы. Медсестру, бывшую жену сковородобойца, оставили в покое, учитывая военные заслуги ее отца, бывшего танкиста, отличившегося под Курском и освобождавшего Прагу.
Через пару месяцев эту грустную историю стали в части забывать, может быть, потому что главная героиня на время затихла, напугав своих потенциальных ухажеров, бывший муж ее уехал в родной подмосковный поселок, устроился по специальности в аэропорт Домодедово, да и обидчика его след простыл.
Борис Ивашкин искренне жалел старлея, служить бы ему да служить, и с какой-то внутренней опаской принимал из рук начальства командировочные удостоверения. Смешно! Жили они в трехкомнатной квартире вместе с тещей. Никаких детских садов, а тем более продленок. Жена у него работала в школе, преподавала девчонкам домоводство. Там только три мужика работало: совсем старый директор, физрук из фронтовиков с ревнючей женой-математичкой и семнадцатилетний лаборант, помешанный на физике и мечтающий о физфаке. Смешно? Ничего смешного. Спрячь за высоким забором девчонку – не зря мудрые люди-мужчины сочинили такую песню, не ради славы, а ради жизни командировочных да и людей обыкновенных, с нормированным рабочим днем и с доглядом в виде тещ, свекровей, дедов с бабками. Прячь не прячь, а украсть можно. Это – жизнь. Тем более если сам объект кражи – не какой-то бездушный экспонат музея, а самая что ни на есть женщина, существо податливое. Борис Ивашкин за командировочным преферансом с друзьями узнал такое о женской жизни, о женщине вообще, что, честное слово, тут и не робкий сробеет, а уж засомневается – точно.
Вьетнам он, однако, пролетал с боевым, веселым настроем. И еще год они хорошо жили с женой, хотя и поругивались иной раз из-за тещи. Это была замечательная женщина, она, по мнению Ивашкина, являлась очень прочным забором для всяких неробких людей, но совсем уж большого счастья, то есть когда ты дома, а теща находится в какой-нибудь своей семейной командировке, хотя бы у старшей дочери или у младшего своего брата, – судьба ему предоставляла крайне редко. Нельзя сказать, что они не ладили с тещей, но ведь это как два летчика-испытателя в одной кабине истребителя. Тут машину нужно щупать со всех сторон, во всех режимах, а не нервы друг друга.
Как они «летали» с тещей в одной «кабине», то есть квартире, несколько лет, а потом после Вьетнама еще три года, он и сам понять не мог. Но свое жизненное задание и он, и она выполнили на «отлично». Может быть, таким благородным и спокойным было лицо тещи в гробу. Я свое дело сделала, теперь ваша очередь.
Похоронили тещу по-людски. В обиде она на него быть не должна. И ходили регулярно на могилу, поставили хорошую ограду по весне, столик, памятник. Борис на это денег не пожалел. Она действительно сделала для него много, если не сказать больше.
Он понял это в день, когда, вернувшись на сутки раньше из командировки, увидел недовольный взгляд жены и услышал ее скупое, почти холодное:
– Привет.
Что-то тут было не так.
Они пообедали почти молча. Жена ушла в школу, вернулась в шесть часов, заставила себя улыбаться, проверила домашнее задание сына, дочери. Борис терялся в догадках. Ругать было не из-за чего, ругаться не хотелось. В квартире полный порядок, приятный осенний вечер, бабье лето. Можно погулять, сходить на речку. Они часто гуляли с детьми, им завидовали сослуживцы Бориса. Что случилось? Почему в глазах жены холодок?
– Ты что, проверяешь меня на прочность? – она первой пошла в атаку, лобовую.
– Ты о чем? – Борис удивился, не догадываясь о том, что началась у них с женой долгая, на всю жизнь война, не сказать, что кровопролитная, но, как и любая война, жестокая, жесткая, разрушительная.
– Надо мной уже посмеиваются наши скамеечные бабульки.
– А можно без виражей?
– Ты уже пятый раз возвращаешься из командировки раньше времени. Не знаю, что у тебя там с твоими полетами творится, но меня проверять не надо. Я не шлюха какая-нибудь.
– Ты что такое говоришь? – воскликнул Борис, поднявшись со стула. – Я же не виноват, что у инженеров произошел сбой и полеты отменили! Что же мне теперь отчитываться перед твоими старухами? И потом, откуда им знать, на какой срок меня посылают в командировку? Это же абсурд!
– Они все знают, не волнуйся.
Борис не волновался, было бы из-за чего. Он не бросился в бой, ушел в большую комнату, включил телевизор, усмехнулся: «Это называется, погуляли!» Человеком он был спокойным, ругаться не любил. И беды не ждал. И не понимал, почему вдруг взорвалась жена.
В тот вечер она ему карты не открыла и еще пять лет мучила себя и его глупыми, полными недомолвок разговорами. Она терпела. Ждала. Все эти пять лет он регулярно летал… в командировку на «Речку». Привозил оттуда арбузы, помидоры, рыбу, икру. Жили они хорошо в материальном смысле. Дети учились, болели редко. Ему – тридцать первый, ей – двадцать девятый. Детям – десять и семь. Почему бы не жить спокойно, без ругани, без нервотрепки?
Второй год шла война в Афганистане. Если говорить честно, Бориса туда не тянуло. Его постоянно тянуло на «Речку». Там проходили испытания машины будущего, техники будущего. Ему хотелось острых, но мирных ощущений. Сбивать, а тем более убивать он не хотел с Вьетнама.
Именно здесь, на «Речке», он поддался, сдался, дал одной местной бабенке возможность влюбиться в него по уши. Ничего удивительного. Да, с виду все было как обычно в этих краях, предпустынных. Местные женщины бросались на командировочных безоглядно, бесстрашно, как на амбразуру. Земля здешняя, захолустная, рожала их, невостребованных, женственных, для того, чтобы они дрались (именно дрались!) за свое право быть женщинами, иметь мужей, детей, дом.
Щедрая была здесь земля на женскую красоту. Но слишком скупой на бабье счастье. Ни одного конкурса красоты, ни одного знака внимания не подарила судьба местным женщинам, удивительным, на любой вкус. Не дарила и дарить не собиралась, подбрасывая, как ветки в костер, им командировочных из красивых городов Советского Союза. Нельзя сказать, что мужики командировочные были так себе, завалящие. Наоборот. Летчики все-таки, порода, кость. Да и среди инженерного корпуса можно было при желании найти кое-что. Пусть и Б. У., как говорится в подобных случаях, но на разживу пригодится. Кому-то на недельку-другую, а то и поболее того, а то и, чем степь не шутит, когда жена далеко, совсем притянуть, приворожить удастся. И не надо здесь морали разводить. Им-то, ихним женам, все сразу судьба отвалила: и мужья, и оклады, и командировочные, и пыльные, и летные, и фрукты да овощи, да икру, да еще мужнину гордость, повышенное, так сказать, местным климатом (читай – местными же красавицами) боевое настроение по возвращении в свои родные ухоженные квартиры. А им, степным бабам, чего? Не надо, не надо! Моральный кодекс они в школе тоже изучали и оценки за него получали, и пионерками, и комсомолками были – а то бы их подпустили к лучшей в мире технике. Да не в жисть бы не подпустили очень уж откровенных лахудр. Даже уборщицами в гостиницы не приняли бы. Даже в столовые, в местные магазины хлебом да солью торговать. Разрешили все ж. Оценили моральное состояние местных женщин, дали им шанс вкусить чуток жизни настоящей.