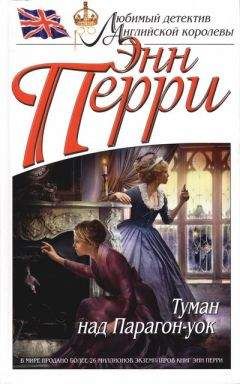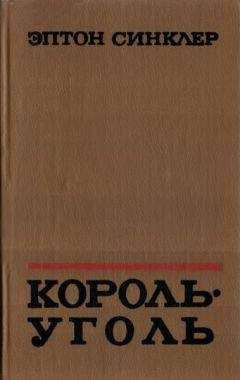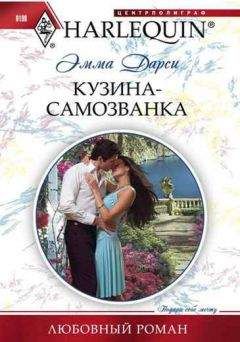Илья Зверев - В двух километрах от Счастья
Все знали, что у него тяжелый характер, и все его почему-то любили, в крайнем случае уважали… И «коечники» в общем тоже уважали. Хотя опасались знаменитой Яшиной улыбочки…
Улыбка у Ларионова была выдающаяся. То простецкая, когда смотрел он на какого-нибудь симпатичного фабзайца; то дьявольская — при разговорах с начальством; то дипломатическая, когда нужно было сказать «коечнику»: «Голубчик, а вкусно тебе есть мой хлеб?»
Драгунский как-то грозился издать фотоальбом «Сто Яшиных улыбок» — незаменимое пособие для театральных вузов и актерского самообразования.
И вот сейчас во тьме заваленного штрека улыбнулся Ларионов Коваленко. Наилучшим образом. Но Адмирал, конечно, не мог этого увидеть. Чудно как-то было у Адмирала на душе — хоть вались все вокруг, хоть плыви сто плывунов…
— Давай, Яша! — кричал он, самозабвенно грохая топором по угольной стене. — Бей, Яша! Так его!
Вода! Тридцать часов напряженно ждали и уже как-то перестали ждать, и вдруг пошла…
От завала с тихим шелестом ползла вода. Вот она заплескалась, ударившись о какое-то препятствие. Тьма, тишина и этот еле слышный плеск… Еще несколько минут, и, выдавив перемычку, лениво, медленно, как густой мед, повалит сюда мокрый песок, плывун…
— Поднять насос! — скомандовал (пожалуй, даже просто сказал) Павловский. — А то подтопит…
Голос у него был тихий, будничный, совсем не вязавшийся с грозной минутой. Зачем кричать, наверху же все слышат. Что подумают наверху?
Вшестером подняли на чурбаках тяжеленный насос. «Раз-два, взяла-а!» И Коваленко вдруг запел. Запел, представьте себе!
— Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает… — в отчаянном восторге орал Коваленко. Он ничего не боялся.
— Что за дурость! Заткнись! — крикнул Павловский. — Давай на высокое место… — И тихо добавил: — Еще могут успеть…
Последние очереди отбойных молотков… И вот горноспасатели ввалились в шестой штрек.
— Кро-о-о-тов!.. Кро-о-о-тов!..
Лучи лампочек судорожно ощупывали стены.
Расшвыривая сапогами воду, горноспасатели побежали вперед. У перемычки остановились на миг: один построил?!
— Кро-о-о-тов! Кро-о-о-тов!..
Он шел навстречу, с трудом переставляя ноги. В одной его руке был топор, в другой — погасшая лампа. Швырнув их наземь, он протянул руки вперед и упал…
На штреке было сооружено ложе из трех ватников. И докторша, приказав убрать лампочки, принялась приводить Кротова в чувство.
— Лена знает? — Это были его первые слова.
— Знает, знает…
— Пей чаек. И молчи…
— Ослабел, — сказал Кротов. — Ноги промочил… Еще позавчера… А в третьем? В третьем был кто-нибудь?
— В третьем плохо, — сказал горноспасатель.
А другой зашипел:
— Ти-ха! Не к чему ему знать…
Кротову завязали глаза, чтобы дневной свет не ослепил его.
— Пошли к стволу. Можешь сам идти?
У комбайна, пробивавшегося к осажденным с тыла, сломался правый домкрат. Здоровенная махина осела, глубоко врезавшись в почву гусеницами. Замерли тяжелые цепи с кривыми хищными зубками. Наступила тишина. Дикая после двухдневного грохота тишина.
И комбайнер Селезнев, огромный, нескладный мужчина в черном ватнике и каске без козырька, стукнул кулаком по стальному корпусу и заплакал.
— Все! Пропал Яшка!.. — повторял он, громко всхлипывая и утирая нос. — Все!
Мальчишка, помощник Селезнева, зажав в углу инженера, просил взрывчатки. Рвануть к дьяволу те несколько метров, что осталось, — всего же несколько метров! — и освободить ребят!
— Нельзя рвать! — повторял инженер. — Нельзя, ребята, рвать! Может газ на них пойти. Что делать будем, если газ пойдет?
— Зачем же тебя, гад, в институте учили?
— Может, с другой стороны дороются, — сказал инженер. — Ваша совесть чистая. Вы за сутки тридцать шесть метров прошли. Столько никто не проходил. Это мировой рекорд…
Последнее слово сильно оскорбило комбайнера.
— Пошел ты со своим рекордом… — сказал он. — Так, так-перетак… Пропал Яша!
Он плакал и ругался полным шахтерским загибом…
Толпа у нарядной почувствовала какую-то грозную перемену. После того как вывели Кротова, кричавшего: «Лена! Лена!..» — всех жен позвали к стволу. Но потом вдруг велели им вернуться обратно в контору.
Теперь люди, выходившие из нарядной, удалялись какой-то особенной деловой походкой, ни на кого не глядя.
«Плывун пошел… — пронеслось в толпе. — Конец!..»
Прошло двадцать минут, а может, и сорок — кому как показалось… Из конторы выбежал задыхающийся Синица:
— Скажите кто-нибудь, чтобы цветы были… — он поискал подходящего слова, — нашим героям. Всех спасли!
Во двор, нетерпеливо гудя, въехала желтая машина «Скорой помощи». Толпа притихла.
Но люди с носилками побежали почему-то не к стволу, а к конторе… И вскоре, открыв вторую половинку дверей, они вынесли на прогибавшихся носилках большого, очень бледного человека. Это был Драгунский.
— Похоже, инфаркт, — сказал кто-то.
— Всех? — еле шевеля серыми губами, спросил начальник.
— Всех, Семен Ильич! — морщась от сострадания, кивнул Алексеев.
— Давайте везите, чего портить свадьбу! — сказал Драгунский. — Счастливо!
Увидев огромный шахтный двор, запруженный народом, увидев солнышко на небе, слезы на щеках жены, цветы, только что вырванные с корнем из горшков, Ларионов улыбнулся лучшей из ста своих знаменитых улыбок и подмигнул Коваленко: живем!
А потом он сказал жене:
— Смотри, Галя, не зря мы за завалом сидели. Вот с человеком познакомились.
1960
ОНА И ОН
Из семейной хроники
Вадиму Сидуру
Я не был в этих местах лет десять. И вот случилось попасть туда снова. Другие поехали на Енисей, на Ангару, в город Рудный, в Кукисвумчорр или какой-нибудь Экиебастуз. Туда, туда, где, как пишут восторженные души, «романтика прописана постоянно». А я сел на Курском вокзале в веселый курортный поезд, в котором пили, пели, смеялись и делали детям «козу» беспечные отпускники. И проводник посмотрел на меня как на арапа и ловкача, когда я перед последней станцией попросил вернуть мой билет для отчета.
— Не пыльная у вас командировочка, — сказал он с наивозможнейшим презрением.
И я, хотя был обязан давать отчет не ему, а издательской бухгалтерии, как-то так виновато пролепетал, что у меня со здоровьем худо, и на север мне нельзя, и на запад тоже не очень…
Ощущение неясной вины не прошло и позже, когда я устроился в кузове полуторки и покатил в сторону, противоположную морю, золотым пляжам и пестрым обольстительным курортным городам. Я ехал в такую местность, где, по словам районных деятелей, любивших прихвастнуть, ежегодно выпадало в полтора раза меньше осадков, чем в пустыне Сахаре.
Но теперь, по всей видимости, с водой как-то обошлось, потому что ландшафт совершенно переменился и на месте рыжих, вытоптанных солнцем холмов зеленели веселые виноградники, казавшиеся со стороны шоссе густыми и кудрявыми. Я не очень точно помнил, что здесь где, и ждал, что вот-вот наконец начнется рыжее уныние. Но так и не дождался.
В райисполкоме я встретил старого знакомого, товарища Горобца. Он и десять лет назад там работал. Только тогда он, по собственным его словам, был «за старшего подметайлу», а теперь сделался председателем. Притом передовым и знаменитым.
Товарищ Горобец накидал мне множество цифр. Цифры были огромные, и шпарил он по памяти, не заглядывал ни в какие сводки и справки. Каждую новую фразу товарищ Горобец начинал со слов: «Вы не можете себе представить». Хотя именно я-то и мог себе представить, как тут все было.
А потом председатель райисполкома сказал, что писателям, которые есть инженеры человеческих душ, конечно, не цифры нужны, а души живые. И на этот предмет (чтобы встретиться с душами) мне надо, не теряя времени, катить в совхоз Гапоновский. Это лучшее в области хозяйство (последовал новый каскад цифр), а там наилучшая бригада (еще цифры), а в ней бригадиром Раиса Лычкинова. Та самая!
Я, признаться, никогда раньше про Лычкинову не слышал. И, признавшись в этом, много потерял в глазах товарища Горобца. Он сказал, что Лычкинова, а правильнее Лычкина Раиса Григорьевна, — Герой Социалистического Труда, виноградарь (виноград едите, должны и Лычкину знать). Она как раз два месяца назад прогремела в Москве, пробила такое дело, что и обком не мог. А она, понимаете, пробила!
Честно говоря, я не люблю ездить к «знатным людям». Мне как-то совестно становиться сороковым, или сотым, или тысячным в деловитый хоровод «бряцающих на лирах». «Бряцающие» всегда колобродят вокруг знаменитостей, ожесточая их стандартными вопросами, сбивая с толку громкими похвалами, теребя, вертя, бесцеремонно толкая их и в рабочее время и в досужий час. Но товарищ Горобец не стал спрашивать моего на сей счет мнения, а просто сказал шоферу: