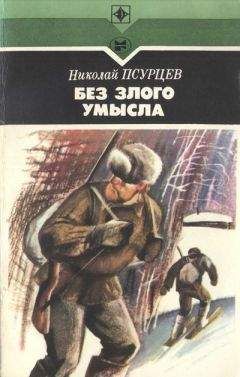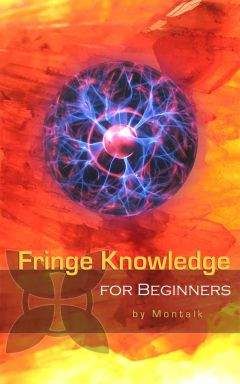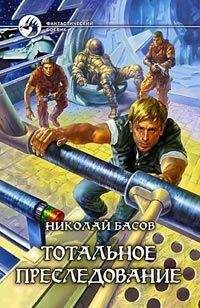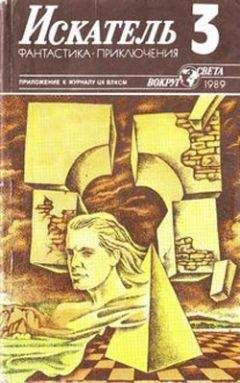Николай Псурцев - Тотальное превосходство
В беседке я встретил женщину…
Село под Кунгуром. Вокруг — лагеря и леса… А девочка хорошенькая. Хотя и незамысловатая. (К тридцати годам уже что-то подпортилось в лице. Но в основном остался еще во внешности некий порядок.) Как и все девчонки из села, бегала на лесоповал. В скорых шалашиках отсасывала заключенным за малые деньги — какой-никакой, а приработок… Вор Синюшин, или Краснюшин, или Чернушин, не понял пока еще, ну пусть будет Синюшин, ее отметил. Ходил только к ней. Женщиной ее сделал. Нежен с ней был. И научил ее даже чему-то — книжки давал ей читать. Заставлял. В зонах, случается, много читают. Правда, чаще всего ни хрена не понимают из того, что читают. Но это уже значение имеет второстепенное. Главное, что читают. Взял ее с собой, когда откинулся. Не в любовницах держал. А просто в подружках. Жалел. Но чаще использовал. Подкладывал ее под нужных людей…
Она мочилась посередине беседки. Тонкий запах свежей женской мочи настраивал на близкое удовольствие.
Я попросил разрешения присоединиться. Она разрешила, не удивившись. Я встал рядом и расстегнул ширинку. Женщина качнула несколько раз маленькими ягодицами и, поднявшись, натянула ловкими движениями маленькие же трусики. С интересом наблюдала за мной. Переводила глаза с тугой струи на не менее тугое мое лицо. Улыбалась мутно. Глотала слюну громко. То отступала на шаг, то возвращалась на место. Пьяненькая? Наширявшаяся?.. Ты мне поможешь, девочка. «А ты красивенький, — сказала. — Но я тебя не помню». — «Это ты красивенькая, — ответил я. — А я только что пришел». — «У меня есть выпивка», — сказала женщина и подняла с пола бутылку текилы. Мы выпили. «Здесь все такие уроды, — сказала женщина. — Ты тоже строитель? Или торгаш? Или мент? Или этот, как его, политик?.. Не похож, твою мать!.. Ты мужик… Просто мужик, и все… От них от всех так воняет… Хоть и парфюма на них море. Воняет… А от тебя так оторванно пахнет… Я чумею, бляха муха… Чумею… Дай понюхать, а… Дашь, да?» Она укусила меня за мочку уха, а потом за подбородок, а потом за левый сосок, а потом за краешек пупка, а потом… «Потом, — сказал я. — Чуть-чуть попозднее… бляха муха…» — «Ты обещаешь?» — грустно спросила женщина. «Я обещаю!» — бодро ответил я. Мы выпили…
Мы обнимались и тихо пели «Вихри враждебные». Она хохотала, а я смеялся. Она рассказывала мне про своих любовников. Их было много, и они были неприятны. Они все время ныли и жаловались. И плакались. От них исходила энергия, но от них не исходило силы… А я рассказывал ей про знакомых собачек, кошечек, белочек, кузнечиков и всякого рода пернатых, про воронов, например, про одного ворона, например. А где он, кстати?.. От них исходило настоящее и незыблемое. Женщина слушала меня, словно кончала. Стонала, гримасничала, порывисто и отрывисто дышала… Ей нравились мои рассказы про зверушек и насекомых…
Мы выпили…
С момента моего явления на территории дома главного инженера строительного управления Масляева прошло двадцать две минуты…
Женщина сказала, что ее зовут Катя или Лида. Нет, все-таки Катя. Это раньше ее звали Лида, а теперь вот ее зовут Катя. Ее другу не нравилось, что ее зовут Лида, и он тогда назвал ее Катя. А до Кати он хотел назвать ее еще Жанна, Диана, Регина, Анжелика, Офелия, Джульетта, Дездемона, Мадонна, Стрелка или Блестящая. Но назвал ее все-таки Катя. Его первую любовь, как она поняла, звали Катя. У них с той Катей был долгий и буйный роман в детском саду. Он рассказывал, что у них с этой самой Катей однажды даже приключился почти настоящий секс…
Сюда Катя пришла с депутатом Баюновым. Но депутат Баюнов нажрался, мудак, и спит теперь где-то в кустах малины, мудак…
Мы выпили…
Катя попробовала зубами расстегнуть мне ширинку, но упала и ударилась затылком об пол.
«Я люблю тебя, — заявила Катя мне с пола. Давила тошноту. Икала. — Ты мой кумир! Ты мой Бог! Ты мой король!»
Входили в дом, целуясь и обнимаясь, разгоряченные и неудержимые. Ругались на всех, кто нам не улыбался и нас не приветствовал. Кого-то били еще и кого-то кусали. Побитые, поруганные и покусанные нам не сопротивлялись. Они были уже пьяные и усталые. Сонные и измученные. И недовольные. Но шевелились еще… Мы тянули «Варшавянку» и дробили чечетку. Кто-то нам аплодировал, а кто-то настоятельно требовал у нас предъявить ему или им документы… Мы царапались, и плевались, и шлепали еще бдительных граждан по рукам, по ушам, по ляжкам, по задницам и по ширинкам. Бдительным гражданам наши действия, без сомнения, нравились.
Три мордатых, короткошеих седых мужика, морщинисто-загорелых, запели вдруг скрипуче и коряво, но задушевно и с энтузиазмом песню «Течет река Волга». Обнимали друг друга за плечи на полу, жали, не скрываясь, слезу, томились, сами того не подозревая, в неизбывной и глупой тоске по бессмертию… Две толстые тетки с допотопными «халами» на головах ввязались в песню на втором куплете. Молотили в сердцах пухлыми, мясистыми кулаками по подлокотникам кресел. Мотали головами как задуревшие лошади, раздували щеки, плескали ноздрями. Жалели о просранной жизни — видели себя худенькими, стройненькими, сексуальными, любимыми — счастливыми…
Один из мордатых мужиков мечтал о карьере медика, пытался лечить, и с восторгом, всех своих детсадовских и школьных подруг и приятелей — до криков отчаяния и мольбы о пощаде с их стороны, а превратился вот в торгового работника. Сегодня владел сетью больших магазинов, но ему по-прежнему все еще почти каждую ночь снились скальпели, шприцы и реанимационные аппараты.
Другой мордатый мужик готовил себя — вплоть до самого выпускного школьного класса — к высокому искусству кулинарного дела. Испытывал наслаждение почти сексуальное, когда представлял себя вершащим Новый Вкус на кухне какого-нибудь дорогого и изысканного ресторана. А прибился вот в конце концов к строительному бизнесу. Организовывал работы по строительству коттеджей, дач, офисов, ремонту квартир. Втайне от всех на роскошной кухне, упрятанной в подвале своего загородного дома, изобретал увлеченно и кропотливо невиданные еще миром блюда… Счастливым чувствовал себя только в подвале…
Третий мордатый мужик ненавидел сушу и любил море. С детства. От тверди его мутило, а в море он выздоравливал — цвет лица его даже менялся. Смеялся все время в море, становился энергичным, быстрым, ловким, сноровистым, властным. Воображал себя всегда, сколько себя помнил, капитаном, первопроходцем, первооткрывателем — дрался со штормами, с морскими бандитами, спасал тонущие суда, снабжал питьевой водой и пропитанием нуждающихся в них жителей прибрежных поселков и деревень… Но закончил после школы тем не менее всего лишь институт стали и сплавов. А теперь вот служит всего лишь обыкновенным, хотя и высокопоставленным, но все равно тем не менее обыкновенным на самом-то деле чиновником в московской областной администрации… Когда порой, случается, попадает на берег моря — отпуск или командировки, — то топчет и бьет его каждый раз, море, нещадно и беспощадно, и ногами, и руками, и камнями, и палками — винит именно море отчего-то в том, что жизнь его на нынешний час сложилась так уродливо и неудачно.
Первая женщина из тех двух, которые с «халами» и которые старились сейчас на Волге вместе с тремя мордатыми несчастливыми мужиками, сколько себя помнила, все время писала стихи — даже во сне без конца сочиняла. Утром восстанавливала, если не забывала. Как Некрасов. Как Тургенев. Как Гоголь. Брала в постель вместо игрушек, вместо медвежонка там, допустим, или какой-нибудь, возможно, куклы томик Ахматовой, но чаще Цветаевой — не учила наизусть, но училась, как собирать и склеивать всякие, разные и не всегда удобные и готовые к немедленному употреблению слова в хоть что-то значащие для любого искушенного или, наоборот, пусть даже вовсе и не искушенного слушателя или читателя и хоть как-то звучащие, с неким подобием, например, темпа и ритма стихотворные фразы и предложения… Только стихами жила. Все остальное, с чем сталкивалась в реальной жизни, считала неважным, ненужным и бесполезным… Сочиняла каждый год речь, которую должна была бы произносить на вручении ей Нобелевской премии в области литературы — если бы такую премию, конечно же, в тот самый год именно ей бы и отдавали… Сегодня работает главным бухгалтером в строительном управлении номер шесть… Ходит почти ежедневно по книжным магазинам, покупает немногочисленные стихотворные сборники современных российских поэтов, строго и сурово, безжалостно и со сладострастием правит их потом специально для этого выбранной толстой и длинной фаллосообразной ручкой с кровавыми чернилами, а после сжигает их с наслаждением во дворе своего шестнадцатикомнатного загородного дома…
Вторая женщина, у которой голова тоже перевязана «халой», сложносочиняемой постройкой, требующей некоторого времени и качественного труда, всю свою жизнь, немалую, но и невеликую еще, чаще одинокую, чем семейную, от самого ее начала, как затрепетал только ветерок на ее горячей и мокрой макушке, — выпихивала себя, энергично и ожесточенно отталкиваясь толстенькими ножками от материнских внутренностей; почувствовав мир, тотчас же заверещала панически и предсмертно и скоренько заспешила обратно, откуда и объявилась, — всю свою жизнь возбуждалась от вида и особенно от запаха животных, любых… Разводила, потакаемая и поощряемая слабоумной матерью, у себя в маленьком домике в подмосковном поселке козочек, барашков, кошечек, собачек, крысок, хомячков и морских свинок. Жила вместе с ними в сарае — спала, и ела, и готовила уроки… Каждую неделю ездила в Москву, в зоопарк. Цепенела всякий раз, когда видела слона, или тигра, или обезьяну, или жирафа, или зебру, или кенгуру. Втискивала в себя безразмерно насыщенный звериными запахами воздух… Во время каникул работала в зоопарке смотрительницей, уборщицей. Приходила на работу раньше всех, а уходила, понятное дело, позже всех. Иногда ночевала в зоопарке. Пела зверям на ночь колыбельные песенки, утром мыла их, причесывала их, разговаривала с ними, обнимала их, целовала их и нюхала их, нюхала, нюхала, нюхала… Перед сном или сидя в туалете — только в туалете чувствовала себя истинно защищенной и по-настоящему свободной, — путешествовала по заповедным паркам Кении и Намибии, лечила зверей в джунглях Южной Америки, спасала от уничтожения и вымирания тигров Азии и Дальнего Востока, руководила московским, нью-йоркским, лондонским, берлинским зоопарками — смеялась, плакала от радости и наслаждения, жила… Закончила после школы текстильный техникум, а потом через несколько лет и курсы повышения квалификации работников легкой промышленности. Добралась до должности заместителя директора крупного и любимого партией и народом ткацкого предприятия. Люди боялись ее. Она казалась им нахальной, злобной, глупой и неуправляемой. Именно поэтому-то они и выбрали ее почти единогласно директором этого самого предприятия, после того как предприятие акционировали. Дешевые ткани хорошо покупались. Директор и она же фактически владелица этого самого предприятия, естественно, богатела… Сидя на унитазе в туалете, орала истошно и обреченно, когда путешествовала по паркам Кении и Намибии, когда руководила московским, нью-йоркским и берлинским зоопарками, когда спасала тигров, когда лечила кенгуру…