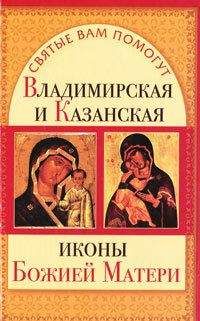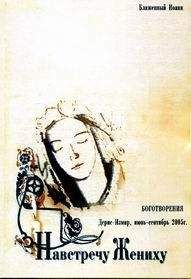Елена Крюкова - Серафим
– Ауська, – грит, – эа и ааок эась?..
Обняла я яво прям творожными-та руками! К животу прижала!
– Да, творожочек тибе, детанька, готовлю, – грю яму, – а ты иди-ко, тятьку-та покличь… вечерять… он ить во дворе, у няво вечерней службы седни – нет…
Котик Филька в кухню взошел. А у няво уж молочко свеже в миске, ждет яво. Лакат так громко – чав, чав, чав! Никитка засмеялси.
– Ауська, – спрашиват, – а Ука э?
– А Шурка, – грю, да не грю спокойно, а изо всех силенок ору, штоб услыхал, – вон за диваном, в летней комнате, рожат! Уж родила! Иди котяток погляди!
Пошлепал. Возвращацца. На рожице – умиленье.
– А! – кричит, крикун. – Аиа! И! Еай, ыай, ооатай!
– Чернай, рыжай, полосатай, – я все-превсе понимала, што он балакат. – Вот как, – смеюся, – от разных отцов, што ль, с разными котами Шурка согрешила…
Слышу, отца зовет, с крыльца:
– Аюка! Аюка! Ии аай! Ауська аол аыат!
«Батюшка, иди давай, матушка на стол накрыват…»
Слышу: топ, топ. Тяжело топат по крыльцу, доски гнуцца. Долго руки моет пред рукомойником. Башмаки сбрасыват. Босой в избу – шлеп, шлеп.
Гляжу на няво. Сердце замират. Загорелай. Рослай. Красивай такой! Красивей всех святых на иконах… всех людей живых и мертвых…
«Милай мой, милай», – сердчишко, ровно у зайца, бьецца…
– Ну, руки-та я вымыл, Иулианья, – весело так восклицат, – а у тибя што?.. А-а-а-а! – Стол жадными, голодными глазами оглядыват. – Пир горой, мать! Седни праздник у нас какой, а, што ль? Какова святова поминам? Я-то седни на утренней Литургии поминал святаго преподобнаго отца Серафима Саровскаго, тезку свово, а ты в честь каво ж нам тут тако велелепье устроила? В честь каково Серафима? Тово или этово?
Глазенки хитры… блестят.
Застыдилася я. Стою фартук в пальцах мну. Он подходит. За плечи миня берет. Руки яво мне кофту, кожу прожигают.
– Не буду, не буду, мать, это ж я так… любя…
Тут Никитка под ноги – шасть!
- Есеясь! Есеясь! А еоме ооии — уыась, а ауська — есеясь!
- В детдоме говорили — ужинать, а матушка — вечерять, – отец мне пояснят. А я яму киваю: и без тябя, толмач, понятно…
Встали вкруг стола. На столе я всяво наставила, ну, на душе ж у миня праздник, праздничней некуда. Я весь свой праздник в яства и вложила. Салат, мелко покрошен: огурчики, варена морковка, варено яйцо, лук зеленай, укроп молодой, все сметанкой заправлено. Уха из сомятины – сома сам же батюшка намедни и спымал, я яво держала в погребце, на леднике. С лучком репчатам да зеленам, опять жа с укропчиком! Дух от нее, м-м-м!.. На второе – пироги в печи русской спякла, один с рыбой, сом-ить большой, как корова, я яво на куски топором рубила, вот какой; другой – со спелою вишней, сладкай! Много, много вишни уродилось в Василе энтот год! Сады ломяцца! Девать некуда! Ягода на землю падат. Хозяйки устанут, уж не варят варенье, а сушат вишенье на крышах…
И творожок лежит на блюде свежай. И сметанка в кринке, достанная с холоду. И сок в бутыли огроменной – сама я из первых яблок, из аниса, отжала. Никитка сок очень любит!
Оглядел батюшка мою столешницу, всю как на праздник уставленну яствами, просиял лицом и грит мине:
– Ну, чудеса! Пироги! Красотища! Люблю пироги! Тут одного тольки не хватат, на столе-та! – и ржет, гогочет, ямочки на щеки вспрыгнули.
Я догадалась. Грю:
– Винца?
– Седни можна, – грит, – седни день не постнай, давай, Иулианья, мечи все на стол!
Я полезла в шкап. Достала бутылочку красненьково. Батюшке иной раз сельчане кагор приносили, да отличнай, сладенькай, настоящай винограднай – штобы, дескать, для Причастия Святаго, в помин душ упокоенных, на тот свет ушедших. Он все бутылки в церковь завсегды уносил. А одну – тож завсегды – в шкапе держал. Я уж знала, игде.
Ляпнула бутылкой об стол. Он сам открыл ловко, быстро, в пробочку штопор ввинтил. Ну, мужики, они ж это умеют.
Стаканы я уж тожа на стол бухнула. А он так ласково мине:
– Нет, мать, ты давай рюмочки нам…
Подала рюмочки. На тонких ножках, навроде опенков. Разлил он красно вино медленно, бережно. Ни капли на скатерть не сронил. Поставил бутыль. Медленно перекрестился.
И мы с Никитой, стоя за столом, тожа перекрестилися.
– Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя… яко на небеси, и на земли…
– И а еи, – старательно повторял Никитка. Я повторяла молитву неслышно, лишь губешками одними. Сильно, духмяно, свежим укропом и сладкой рыбой, пахло от кастрюли с горячущей ухой, и я глядела, как по ухе круги рыжего, золотого жира плавают, круги да звезды.
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь…
Батюшка обвел глазами стол, и у мине внутри захолонуло: он так читат энту молитву каждодневну, привычну, так читат, будто б она, молитва энта, вот щас, из яво губ, на свет родилася! Так он про хлеб-та вымолвил – мурашки у мине по спине морозом, лютым холодом процарапали!
– И остави нам долги наша… яко же и мы оставляем должником нашим…
Да, да, думала я так-то радостно, да, всем прощаю, всех прощаю… кто нас мучил и истязал, кто нас бил да обижал… и нам наши грехи тяжкия, наши долги суровыя – прости, Господи, и оставь!..
– Ойиом аым… – шептал Никитка. Щечки яво розовели. Он жадненько уже посматривал на стынущу в кастрюле, янтарну ушицу.
– И не введи нас во искушение…
И тут щеки мои стары, морщинисты вспыхнули!
Объятья наши прошлогодни на сырой зямлице, на огороде – припомнили…
«С той осени кажнай день мой – праздник, – твердо так молвила я сибе, внутрях, в ребрах. – Как энто случилося – всякай день мой – праздник. С ним – все – и всегды – будит у миня – праздник. Господи, продли и сохрани яво дни! Жизнь яво молоду, щастливу – спаси и сохрани! Все нещастья яво отведи от няво – на миня!»
– Но избави нас… от лукаваго… Яко Твое есть Царство, и сила, и слава ныне, и присно, и во веки веков… Аминь.
– Аии-и-и-и-ий! – громко, как петух на заре, запел Никитка над столом.
И батюшка нас всех перекрестил широким крестом; и сели мы вечерять, потому уж солнце садилось.
А опосля вечери, когда я утащила в кухоньку со стола грязну посуду и все намыла, и вытерла, и расставила по полкам да шкапам, сели мы все, втроем, середь избы: отец Серафим, я, мать Иулианья, да Никитка, сынок наш дареный, Господень. Никитка сидел на полу, на теплой от солнца половице, глядел, как кошка разлеглася на шерстяной подстилке, кормит котят новорожденных. Гладил черново котеночка по пушистой спинке. Черный Филька важно в избу взошел; воссел рядышком с Шуркой, умывался, знатно поел, молоко с морды, с усов лапой утирал. Стенька поскребся; Никитка и яво в избу пустил, хотя я не разрешала собачине обычна-та в избе валяцца.
А тут и Яшка, красна рубашка, из клетки своей наружь попросился! И яму дверцу открыли. Порхнул, шельма красна! И – по обычаю – мине на плечо, и в мочку миня клюет, клюет! Цалует дык… Любит…
Все живоя, тут до миня дошло, все-все живоя на свете белом, милом любит друг дружку…
А не любит – дык ненавидит и убиват, тут и весь сказ.
И так сидели мы, все рядком, и люди и звери: батюшка, сынок, я, Стенька блохастай, все ногой за ухом чесал, глядел умильно, чернай коток наш Филька, а тот все умывалси, мордочку лапой когтистай тер да тер, киска Шурка с приплодом, мурчала-фырчала; краснай как огонь в печи, крючконосай Яшка, да Кирка в хлеве взмукнула, мы все услыхали.
И молвила я так, губенки мои сами вымолвили:
– Вот мы тут… все… прям как Свято Семейство…
И глянула на Серафима, в глаза яво, рыбами плывущи, попыталася заглянуть – ласково, умиленно.
Дык што скажит вить?!.. как это у миня вырвалось-та… у святотатчицы…
«Да не с тобой ли мы спали на голой, на ледяной зямлице?! – хотелось мине взвопить во весь голос. – Не с тобой ли спозналися?! Миня хоть на миг, на ночку осенню, а своей женою – исделал! Так рази ж не Семейство мы?! Рази ж я не хозяйка твоя, а ты рази ж не хозяин мой?! А не энта, не энта, не энта… Вертихвостка… По дворам да по сараям мужиками драна… Ну скажи, крикни: да!»
Потупился он. На Никитку глянул. Кошка пела песню. Попугай миня за ухо клевал. Все было тихо в вечерней избе, и пахло моими вкуснячими пирогами.
И он на миня поглядел энтак… Ничево не ответил. Смолчал.
ПОГУБИЛИ. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ГАГАРИН
А деревня гибнет. Она все живет, живет еще, длинная, долгая гибель у нее. Еще на столетья растянута, как плохая гармошка, будет эта мучительная смертушка. Она стонет и плачет, и гибнет, и губят ее безжалостно наши правители, наши владыки!
Только владыки? Ой ли? А сами-то мы куда смотрели?
Сами мы, люди, русские люди, деревню погубили. Зачем это сделали? Работать на земле не хотели? Но земля же – кормит нас. Кормит!
А сейчас – кто – кого – кормит?!
В Василе раньше было два огромных стада: одно паслось на Суре, под Шишкиным мысом, другое – на Волге. И за Волгой, в заливных лугах, коровы паслись. Их туда на пароме отвозили, да на все лето. Бабы с ведрами за Волгу переправлялись – и столько молока надаивали, что домой-то еле увозили! Мужики их с переправы с телегами встречали! Да как по избам баб развозили – молоко на дорогу из бидонов выливалось! Молока было – залейся! Масла! Творога! Сыр домашний делали! В сметане – ложка стояла! А теперь?
А теперь по Василю две жалких коровенки мотаются, травку у избенок щиплют, да два теленочка сиротливых у них под хвостами. И все!
Почему? Молодым коров заводить – лень?
А то! Лень, конечно. Пошли в магазин – и говенное это заводское молоко, в картонных коробчонках, задорого – купили. А что это за молоко? Порошок химический в воде развели… Сметанку из него – не-е-е-ет, не сделаешь…
А председательша сельсовета, Надежда Осиповна, дрянь такая, глупа хозяйствовать, да красть больно хитра, коров тут у нас вообще запретила держать! Говорит, и зоб от важности надувает: Василь – это не деревня, а поселок городского типа! Почти, мол, город! Раньше уездный город был! А какие в городе, говорит, коровы!
Ну разве не дура. Уездный Василь-град – молоком да творогом залит-завален был! До революции тут, думаю, не два стада было, а все десять!
Я однажды, для календаря юбилейного, Василю четыреста восемьдесят лет отмечали, взял да сфотографировал двух теляточек, милых таких, около дома Вали Однозубой. Заснял! В календаре самодельном спечатал! Так председательша, язви ее в душу, мне целый скандал учинила! Кричала: «Ах, я до приступа дошла! Ах, я сердечных капель стакан уж выпила! Вы меня, Юрий Иваныч, зарезали без ножа! Ну какие в Василе коровы, какие! Я с коровами – всю жизнь борюсь, а вы мне их тут засняли да пропечатали! И теперь все подумают, что Василь – деревня! Ах, ужас-то какой!»
С коровами борюсь, вон оно как. Сама ты коровища, Халда Батьковна, думаю, да грех коровьим святым именем человечью дуру обзывать. Сама-то, думаю, кляча, молочко да творожок любишь?! Сметанку трескаешь?! То-то и оно! Перед кем выслуживаешься? Кому из начальников жопу лижешь? С кем награбленные казенные денежки делишь?! Война с коровами, кому не скажи… За лапу когтистую не схвачена ты, кошка хищная… а не пойман – не вор…
От фруктов-ягод ломился Василь когда-то! Еще на моей памяти тут яблоки совхозные, сливы в банки закатывали, консервы – конфитюр, варенье, компоты – в город на продажу везли! А нынче что? Дачники ощипывают свои вишенки да яблоньки, кто трудолюбивый, хотя б варенья поварит. А то – плод так наземь и упадет. Никому дела нет.
И сил – уже нет.
Или вот, лесопилка. Тут у нас не леса, под Василем-то – лесища! Чащобы! И сосна, и лещина, и березки, и липа! А дубы корабельные! Петр Первый на Шишкином мысе рощу дубов корабельных велел насадить, и на каждом дубе клеймо царское поставил. Заповедная роща, мол. И таких дубов тут шумело – шестьсот!
Десяток – быть может, сохранилось…
Ни коров, ни свиней. Ни лесопилки. Ни пасек. Я вот пчел держу, пчельником занимаюсь; да еще Евгений Ильич Гринев; да еще Борода, доктор наш марийский, Петр Семеныч. И все, трое нас героев. А когда-то Василь просто ведь тонул в душистом меду, медом в августе, при медогонке, до крыш заливался, мед в монастыри дарил, в больницы, в школы и училища, в детские дома отправлял!
Я традиции эти сохраняю. И Гринев тоже. Мы с ним завсегда в детский дом бидон-другой меда – отольем и директрисе – принесем. За так. Бесплатно. Еще чего, с деток мы будем деньги брать. Зато государство нас, пчеловодов – мутузит! И еще как! Говорят: пчелы ваши кусаются больно! Говорят: забор стройте – три метра в высоту! Ох, умора… Так пчела эти три метра – свободно перелетит! Да еще над нами посмеется.
У меня пчельник маленький. Десять ульишков всего. Держу не в работу, а в удовольствие.
А у Гринева — о-о-о-ой… за сотню уж перевалило… Спец он в этом деле, в пчелином… Ну, ему младший сынок помогает. Старший-то — в Питере… начальник важный… ему не до меда.
А еще в Василе когда-то строили – корабли…
А еще – совсем ведь недавно!.. до революции этой треклятой!.. – было тут у нас девять пристаней, и пароходы гудели, огнями в воде ночной отражались… и одна пристань была – вовсе не пристань, а – живорыбный садок… Живая стерлядка там плавала, осетры живые, карпы, щуки, судаки, сомы… Кто хочешь, любую рыбу покупай!.. На любой вкус!.. Для ухи, для жарехи…
Прибыль хозяин того живорыбного садка хорошую имел. Хозяина того звали Николай Харитонов… Гальки Харитоновой, то есть Пушкаревой, то был батя… А мы – что?! Последний рыбный магазинишко васильский, куда рыбартель привозила – не осетров отнюдь!.. лещей да подлещиков, судачков да мелочь всякую пузатую… – взяли и закрыли!
Теперь кто только сам рыбку спымает… тот и с добычей…
Юмор: это мы ж на Волге, на Суре… Воды да рыбы кругом – хоть жопой ешь…
А вчера детский дом у нас в поселке уничтожили. Беда такая. Детишек тут человек тридцать проживало. И это для них был – дом родной! Ну, и воспитательши, и нянечки, и медперсонал – врачиха да медсестрица… Работали люди. Благое дело делали. А в районе порешили дядьки толстопузые: денег нет, платить зарплату нечем, ну так давайте и закроем детдом! Дети плакали, кричали… друг за дружку цеплялись, когда расставались, их по разным детдомам – всех распихали, растолкали… И обслуга вся – на улицу вышвырнута, и рыдают бабы-то в голос, работы ведь в Василе бабам никакой не найти… Продавщицами? Все занято, три магазина под завязку забиты. В клуб податься? Тоже занято все: директор, уборщица, да я – баянист… Пароходов на Волге нет, в навигацию официантками – уж не устроишься… Три дома отдыха было – два закрыли да разломали на дрова, один – богатею нижегородскому продали, он на ворота замок навесил, собак-ротвейлеров завел, бойцовых, на Волгу, к пляжу-песочку золотому, народу уж никогда не попасть: ча-а-а-астная со-о-о-обственность…
Ну и куда эти бабенки подадутся? Где монету заколотят?
Обнимали они детишек на прощанье. Кричали: «Береги себя, сыночек мой!.. Пиши мне, доченька моя!..» Сыночек, доченька… Тоже все к ним, к ребяткам-то, бабы привязались, сердчишками присохли…
Эх, как дети-то плакали! Я – слыхал. Из избы своей. Я ведь рядом с детдомом-то живу. Вся эта лютая, бестолковая казнь на моих глазах, можно сказать, происходила.
Эх люди, люди, палачи… Детям своим уже – палачи…
Детей друг с дружкой разлучили; а ведь они были друг другу – семья…
А мы все – друг другу – давно уж не семья. Враги мы все друг другу. Волки.
Да нет: хуже волков.
Что ж это мы, люди, да сами с собой-то делаем?!
А кто даст ответ? Никто. Я вот себя спрашиваю – и сам себе ответа дать – не могу…
А вы еще талдычите: Господь, Госпо-о-о-одь! Бог по-о-о-омощь!.. Какой тут Бог помощь?! Если мы сами себе не можем помочь?! Вместо того чтобы перед вашим хитрожопым отцом Серафимом в церкви на коленях унижаться-распинаться да псалмы никому не понятные завывать – взяли бы, мужики, топоры в руки – да лесопилку восстановили! Взяли бы, бабы, заброшенный дом возле сельсовета – да варенье варили там, на продажу! А в брошенном кафе «Волна», где одни синие мухи жужжат да собаки блохастые живут – коровник сделали! Что, говорите, денежки нужны?! Так они ж нужны везде. И всегда. Выбейте денежки! Выдавите! Из начальства жирнопузого – вытрясите! А-а-а-а, никому неохота с властями связываться! А что, боитесь, дом подожгут?! И подожгут ведь. Василь – село разбойное. Здесь когда-то разбойник Галаня с ватагой шумел… Стенька Разин тут веселился, пьянствовал на стругах своих… Да, русскому лишь бы: гуляй, душа!..
А деревню сгубили. Деревню.
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
И мне бы однажды сесть на осла! И мне бы повторить путешествие Христово!
Ах, негодник Серафим, не на осла тебе – на козла бы воссесть, на козлища… Вон, у Пестовых одолжи, бодучего…
Сегодня на праздничной службе я счастлив был.
Сегодня с Настей я увиделся. И она меня поцеловала. И снова родила.
Господи, я сам – сегодня – ослик Твой! Хочешь, закричу от восторга: иа-а-а! Иа-а-а-а!
Это тот, тот народ, который через шесть дней будет вопить, плюя в Него и бросая грязью в Него: «Распни! Распни!» – это этот самый народ сейчас кидает пальмовые ветви и веточки вербы под ноги осла Его, и смеется от радости видеть Господа и Учителя своего, и кричит: «Осанна!» – и хвала из всех глоток к небу несется?!
Да, это тот, тот народ. Тот самый.
– От незлобивых младенец Христе, на жребяти седя приял еси победную песнь, грядый ко страсти: трисвятым пением от ангел воспеваемый… Се Царь твой Сионе, кроток и спасаяй грядет на жребяти…