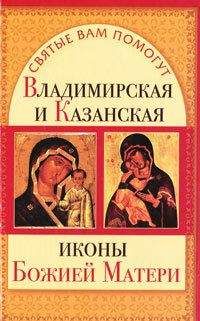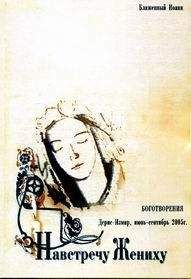Елена Крюкова - Серафим
– Што ж, – грю, – идем чай утрешняй пить, отец Серафим…
– А рази ж утро уже? – так грит. – Глянь, ищо звезды в небеси…
– Утро, отец, – грю. – Пока ты мылси-плескалси, я уж и самовар вскипятила…
И што миня толкнуло опять – ну, вот дура ж я и есть дура! – склонилася пред ним, как под благословенье, руки черпачком сложила, и он миня перекрестил, лоб мой грешнай, и я яму, родному моему, сонцу яснаму, руку поцаловала.
РАССКАЗ О ЖИЗНИ: САН САННА БЕЛОВА
Я… о-о-о-ох, я уж такая древняя… из меня уж не песок сыплется – а пепел серый… я… не могу долго говорить, да что могу, расскажу…
Красавицею девушкой я была. Ох, красавицей!.. Гляньте-ка в альбомчик… да, да, вот сюда. Видите, какие снимки?.. в мастерской Карелина и Дмитриева делали, в Нижнем… при вспышке магния… магний-то зеленым огнем горит, я жмурюсь от страха!.. а ну как взорвется!.. Это я с Шаляпиным. Глазки, ах, какие ясные!.. Не глазки были – незабудочки… Неужели ж я стала такой старой развалюхой?.. Это я – с Куприным!.. А это – на Выставке девяносто шестого года – узнали, с кем?.. С Михаилом Врубелем! Врубеля тогда чиновники нижегородские ругали: он нарисовал панно, а им не понравилось! Слишком яркое. Кто теперь помнит имена этих чиновников, дураков, баранов, прости Господи?.. А около картин Врубеля – плачут, склонив колени… в Третьяковке… я сама видела…
Родители мои были благородные, у нас в Нижнем был большой наследный дом, и в Васильсурске у нас было три дома. Один – жилой, жили мы там и зимою; один – летний, светлый и просторный, дачный, с двумя крытыми верандами; и один – у самой Волги, так, чтобы ходить купаться удобно было, близко. К нам семейство Поленовых в гости ходило!.. К отцу моему… Отец живописью баловался; Исаак Левитан в Василь наезжал – с Левитаном папа на этюды ходил… Дубовую рощу на Шишкином мысе – вдвоем на холстах маслом писали…
А-а-а-а-ах… Времечко было, да-а-а-а…
Солнца было вдоволь. Рыбы – вдоволь. С колоколен звон лился!.. как масло золотое… в меня мужчины влюблялись… Но я им – не-е-е-ет!.. руки не давала… Видите, платье беленькое, на рукавах оборочки… Я себя блюла, не то, что девки теперешние… Я от Федора Иваныча личико отворачивала, когда он меня однажды на Орлином гнезде пожелал поцеловать… ну да, от Шаляпина самого!.. А сейчас жалею… так жалею, что – плачу… И всем молодым говорю: целуйтесь, милуйтесь, пока желаете, пока чудо жизни с вами происходит…
А что потом?.. А что потом… Потом – огонь был. Огонь и смерть.
О-о-о-о-ох… вспоминать тяжело… да уж ладно, вспомню…
Мое семейство большое почти все перестреляли. Отец, мать, три сестры, брат и двоюродный брат тогда, в восемнадцатом году, в Нижний из Василя, после лета, вернулись. Тут и начались расстрелы… по всему городу… Их расстреляли на Гребешке. На Ярилиной горе… Там десять тысяч человек положили… Братик и одна сестричка чудом спаслись! Выжили… среди наваленных тел, трупов… плавали в крови своей и чужой… выжили. Их живых из-под трупов достали… ночью… добрые люди… услышали стоны… С нашей теткой, Зоей Дормидонтовной Беловой, братик и сестра – во Францию на корабле уехали, из Одессы… на чужбине от смерти – спрятались… Ну, там, конечно, чужого, французского горя хлебнули… Да все живы остались, письма мне оттуда писали; не все доходили; а потом и вовсе приходить перестали; я за них молитвы Господу возносила.
А mama, papa, две сестрички, Лизочка и Леночка, и кузен мой, шалун, повеса… так там и остались лежать… на Ярилиной горе… в Нижнем…
А я в Василе осталась тогда, уж больно мне хотелось антоновских яблок и спелой калины в зиму пособирать… и схоронилась, и чудом уцелела.
А-а-а-а-ах… кх, кх, кх… ох, ох… Ножки болят… суставчики… Мне ведь, знаете, сколько лет?.. Да я и сама уж теперь не знаю…
Надо жить было в том аду. Выживать… Меня под себя подмял комиссар. Я за него замуж вышла. Ну как вышла? Мы ж не венчались… а так… Плакала я очень. Грубый он был. Но я за ним – жива осталась, меня уж не тронули. Никто меня, как “бывшую”, ни в тюрьму не упек… ни к стенке не поставил… Комиссар мой, Леонидом его звали, любил сигареты “Ира” курить. Курил-дымил без роздыху. Я задыхалась в табачном дыму… все легкие прочернели… дышала-дышала – да и сама дымить начала… И посейчас курю. Ах, дайте-ка я закурю!.. И прокашляюсь сразу… кха, кха, кх-х-ха…
Ну так вот. А у меня тут, в главном нашем васильском доме, от mama остался маленький сундучок с драгоценностями. Мамочка все мне шептала на ночь, на ушко: Санечка, это ваше наследство, твое, Annette, Lise и Helene… Тут все мои жемчуга, papa покупал мне их в Париже и в Риме, тут брильянты дивные, роскошной огранки… тут прабабушки вашей, урожденной графини Шереметьевой, перстни с сапфирами и шпинелью в оправе из мелких алмазиков… тут золотые цепочки… тут кольцо, что бабке вашей на балу Царь Николай Павлович сам на палец надел!.. Тут изумруды египетские, изумрудное колье, а это подарок Императрицы-матери Марии Федоровны – мне самой, матери вашей… берегу как зеницу ока… только на Рождество да на Пасху надеваю… А я mama спрашиваю: а почему ж вы такие сокровища не в нижегородском нашем доме, а здесь, в Василе, держите?.. И mama вдруг лицо ладонями закрыла – и заплакала. А потом руки от лица отняла… гляжу – улыбка у нее на губах, такая прелестная… красивая наша мать была, просто – икона… И шепчет: здесь, в городишке уездном, мое последнее счастье, ваше единственное наследство будет сохраннее… шепчет: время дикое, тяжкое грядет… смерть идет на нас черной тучей, смерть…
Так оно и вышло. Черная смерть съела все, как саранча… не одну нашу семью сожрала… А всю Россию. Всю…
Кха, кха, кха-а-а-а… Ну и вот… За комиссаром я, значит. Он – расстрелами занимается… и, выходит, я жена убийцы. Душа моя вся прочернела, не только легкие от табака… А он ночами накурится, водки напьется, одеяло с меня сбросит на пол и кричит: ты, бывшая! Ты, кружевная барышенька! Мы вас всех так и растак! Вставай, кричит, кисея графская, да танцуй мне, танцуй! Я сегодня сто человек в затылок расстрелял… хочу развлечься! Танцуй да на колени мне голая садись!.. Я все делала, как он хотел… Он меня – бил, если что не так…
А в зеркало погляжу – и плачу-заливаюсь: красота такая пропадает… А потом тайком перекрещусь и думаю: Бога гневлю, а надо благодарить, что жива осталась…
И что? Убили моего убийцу. Убили здесь, в Василе. Убил Володя Потапов. Володя в меня был до революции влюблен. Он мне – землянику в соломенной шляпе приносил. Знаете, такие были соломенные шляпы широкополые?.. назывались – бриль… Не знаете?.. Ну и ладно… Я землянику из шляпы ела, над Володей смеялась: никогда за вас замуж не пойду! Он вздыхал: ну да, вы, Шуронька, конечно, выйдете замуж за Великого Князя, ни за кого другого… с такою-то красотой… Вот… вышла…
Ночью убил моего мужа Володя. Из обреза. Когда комиссар мой на двор по нужде вышел. Звезды тогда ярко, страшно горели… поздняя осень стояла…
Убил, в окно мне постучал: я выглянула, думала, это муж. Вижу, в свете Луны яркой и звезд, бешеное, перекошенное лицо… чужое… сердце в пятки… потом пригляделась: Боже, Володя… Что ты тут делаешь, Володя, кричу через стекло?! А он мне… по губам читаю: я твоего мучителя убил… собирайся… хватай все самое дорогое… из одежды что… и бежим…
Я спустилась в подпол. Отодвинула тяжеленную бочку с банками олифы. Под бочкой – яма, заваленная досками. Я доски отгребла… там – сундучок… Наше сокровище. Я его сама так хорошо спрятала. Понимала: красные все отберут и меня убьют, если найдут…
Но не потащишь же с собой по дорогам жизни сундучок… он размером с маленький чемоданчик был… Я выгребла все камешки, все золото. Сшила, на скорую руку, а руки-то трясутся в дикой ночи, мешочек холщовый… в него камни положила… и мешочек тот – под нижнюю юбку – суровой ниткой – крепко присобачила… Ну и все! В путь-дорогу, Санечка!.. Господь да сохранит тебя…
И мы с Володей Потаповым сначала на лодке – до Курмыша… потом посуху – на перекладных – до Саранска… потом на поезд литерный – и – на юг… И так добрались до Средней Азии. До Ташкента… а-кха-кха-кх-х-х…
Ох, Господи, дайте-ка затянусь… вот как затяжку сделаю хорошую – так ведь и не кашляю уже, правда?..
…а-кха-кха… и виноград ташкентский ели, да, огромными блюдами, от пуза; и дыни сладчайшие; и, главное, тут, в России, все голодали, а в Ташкенте хлеба было навалом, мы с Володей хлебом первое время просто обжирались, так уголодались здесь, на Волге… Я научилась в тандыре лепешки эти ихние печь. Оби-нон, ширму, чеват… Тесто крутое замесишь. Бац, бац!.. бросаешь в зев печи, в горячее жерло… а они сами к стенкам прилипают… и огонь живой горит, красный… волчьи языки…
Хоть и хлебный город был Ташкент… а нищие там водились. Рядом с нами мать жила, узбечка… пятеро детишек, голодали… Она на улице сидела, на коврике, побиралась… Я ей – перстенек один сунула, не помню уж сейчас, с камешком каким… вроде с топазом медовым… и цепочку золотую с рубиновым крестиком: продай поди, купи еды! Продала. Стала на это жить… Однажды пришла – на колени кинулась, мне ноги целовать… я отталкивала ее, потом сидели, обнимались, ели лепешки, она в платочке принесла, теплые еще, плакали вместе… лепешки эти слезами обливали, а они, помню, с изюмом были… А Володя нам на граммофоне Лещенко ставил, модный был такой певец, Петр Лещенко… ох, душевно пел…
Недолгое счастье наше было с Володей. Убили Володю басмачи. Для них русский означало – красный, хотя Володя никогда красным не был. Опять я плакала. Голубые глазки свои, ясные, незабудковые, все вот так и выплакала… вся слезами, как вобла, просолилась…
А сокровища матушкины, что под юбкой нижней я через всю Россию да через всю Азию в литерных да в товарняках провезла, я около дома, что мы снимали, около арыка закопала. Глубоко закопала… в железный ящичек положила, как в железный гробик… Думаю: жизнь большая… еще пригодятся…
Володю убили… а я в положении. Что ж!.. так суждено. Родила… девочку…
Радовалась: вот и я грудью кормлю, и я – мать, вот и ей сокровища семейные достанутся…
А вокруг страна строилась! Все гудело и плавилось! Мотались поперек улиц красные транспаранты! И мир уж давно настал, а все стреляли… От жары, от зноя голова моя трескалась, как дыня… Ночами от жары я в мокрую простыню заворачивалась. В глазах уж слез не было: сердце ревело ревмя, так домой из прокаленной Азии хотело…
Тяжело одной было, да с ребенком. За узбека замуж вышла. В ЗАГСе расписались, печать в паспорте у меня появилась первый раз! Советская… советский брак. Узбек мой, Ахмед, добрый был малый. Он – военный был. От лейтенанта до майора дослужился. Хорошо мы жили. У нас в Ташкенте свой дом был. Всех его друзей в ежовщину пересажали, всем – пулю в лоб… или в затылок… или – в лагерях сгноили… а его не тронули. Вот сейчас и думаю, голову ломаю: а почему ж его-то не тронули? Больно угодил властям, так, выходит?.. Может, где шептал… кого-то предавал… выслуживался… Ох, нехорошо так-то о мертвом. Пусть это его тайной и останется на небесах, Царствие ему небесное, хоть он и узбек, мусульманин… В театр в Ташкенте оперный идем на премьеру – в зале шепот-ропот: вон, вон он, счастливец, майор Иноятов, с красавицей-женой!.. Дом полная чаша… достаток… я – майорша… вторую дочку родила, Гульчехрой назвали, по-ихнему… чем не счастье…
А о драгоценностях своих я мужу ничего не сказала. Не открылась… кха, кха, кха…
Не раскололась, да!.. а лазила туда, под землю, в ящичек-то, нет-нет да и раскопаю… И – вынимала золотишко! Да не для себя. У меня-то все было. А для кого?.. да так, для того, другого… Когда сил не было глядеть на страданья людей… Вот в больнице Ахмед лежал – там нянечка полы мыла; моет и плачет, моет и плачет… моет – слезами… Я спрашиваю: что ревешь? А она мне: трех детей, трех парней красивых, здоровых – взяли да посадили… десять лет, ревет-разливается, без права переписки… А я-то уж знаю, что это такое. Расстрел это, вот что. А она знай ревет: да жен их, снох моих, тоже посадили, а у меня на руках все детишки… я, хлюпает носом, внуков в детдом не отдала… в погребе спрятала… а вот теперь корячусь, а они сидят, голодные галчата, меня с работы ждут, как чуда, и сразу – в руки смотрят, в сумку лезут… Я ящик выкопала в очередной раз, схватила золото в горсть, не глядя схватила, и – за пазуху… и ей несла, так через весь Ташкент в больницу – как на пожар бежала… через рельсы трамвайные упала… коленки в кровь расквасила… так и прибежала к ней – дырки на чулках, кровь и грязь по чулкам ползут, я с золотом на груди на крыльце перед ней стою, и смеюсь и плачу… А за ней – за ее спиной – головенки ребячьи, как… как грибы в лесу поутру…
А тут – война. На фронт Ахмед уж полковником ушел. Гуля умерла от скарлатины. Пометалась два дня в жару и умерла. Потом на Ахмеда похоронка пришла. В первый месяц войны его убили. Мясорубка тогда была будь здоров. У армии нашей не было ни оружия, ни танков вдосталь, ничего. Колотили немцы наших ребят, а Сталин все гнал да гнал народ под пули. Живой стеной Москву защитили! А я уже не плакала, потому что слез уже не было.
А к нам в Ташкент стали эвакуированные поступать. Много! Эшелоны из Москвы приходили, не знали, куда кого девать, расселить… К нам в дом, дом-то большой был, пол-поезда затолкали. Дом стал – как бешеный муравейник! Эх и насмотрелась я на людское горе! Одну старуху привезли из Ленинграда… гордую, худую как палка. Волосы она в белый, снежный пучок на затылке забирала. Ходила всегда прямо, как у офицера, выправка… За ней девчонка ухаживала, тоже такая надменная, все молчала; и парнишка был с ними, весь в конопушках, смешной, рыжий. Девчонка с ним по-немецки говорила. Я-то догадалась: приютили пленного фрица, молоденького, от охраны драпанул… пожалели… Думала: немчика если найдут – сразу шлепнут, чикаться не станут. Жрать им всем троим иногда было совсем нечего! Загляну в комнату – дуют чай пустой… Ну, я и сунулась опять в мой сундук подземный… Все думаю сейчас: эх, как же это меня никто не приметил ночью-то, как я в земле копаюсь?!.. знать, хорошее место было, укромное… никто не видел. Только алыча одна над арыком – и видела… да звезды, крупные, как те брильянты мои…
Принесла им золото. На стол положила перед старухой. Она в кресле сидит как деревянная. Как идолище. Вот, говорю, продайте… и себе еды купите. Сама лицо отворачиваю, чтоб не разрыдаться. А старуха цапнула со стола золото – да мне в рожу как кинет! Кольца, браслеты по дощатому полу раскатились, зазвенели. Захрипела: не нужны нам подачки! Мы гордые! Мы… и ну валиться с кресла! Сердечный приступ! Я подхватила ее. К себе прижимаю. Шепчу: да я… да я от чистого сердца… Тут парень этот конопатый, немчик, вошел. На нас глядит круглыми глазами совиными, хлоп-хлоп. Ничего не понимает, вижу. Рот разинул шире варежки. На золото жадно глазенки расширил! А девочка тут была, рядом. Кинулась к старухе. Гладит ей руки высохшие. Лепечет: “Не обижайте женщину, Анна Андреевна, вы же видите, она и правда от чистого сердца!” И я шепчу: не бойтесь, не краденое… фамильное… Сказала и испугалась. Донесут! Или она, или девчонка… У старухи крашеные брови вверх поползли. “Фамильное? – повернула ко мне орлиный нос. – Так это семейное? Так кто же вы? Ах, да… ну, не спрашиваю…” Помягчело жесткое лицо. Я нагнулась, по полу ползаю, золото собираю. На стол из горсти опять упрямо вывалила. Сухая лапка, вижу, сама взяла звенящие цепочки. “Я приму, – вздернула подбородок. – Но мы вам отработаем!”
Какое там отработали… Я старуху в Ташкенте и похоронила, сама… А девочка и тот немчик – поженились… Я им еще и на приданое золотца дала; они меня целовали, мамочкой уже называли… Потом в горы уехали, спрятались, чтобы немчика не нашли, он же в бегах был… Так я их и потеряла, все ленинградское семейство… кха…
Закончилась война, и подалась я с девочкой моей единственной, с Люсичкой, в Россию! Дом, в котором с Ахмедом жили, государству отдала. Он же у нас ведомственный был. А даже если б он и мой был – я ж не знаю, как это: купить, продать… Вот глупая такая, да!.. бесхозяйственная… Ну что, путь открыт, зеленый свет тебе, Санечка! А у тебя – ни денег, ничего… Кроме сокровища твоего, коим ты не себя – чужих людей спасала и кормила. Откопала близ арыка мой железный ящичек. Не заржавело золотце мое в земле… Откинула крышку… перебираю самоцветы… сильно их поубавилось за жизнь… и слезы… опять живые слезы, горячие – на мертвые камни – как полились!.. Потоком… Кап-кап, слезки бабьи… И шепчу: Волга, Волженька моя, Василь мой, Нижний мой, баржи мои, плесы мои, рыбацкие костры на берегу, да я ж снова увижу вас, я до вас добегу, долечу… доползу…
Собрались и поехали, две робких курочки, молодая да малая. Я – в ситцевом платье, в Ташкенте ж жара; Люсичка в сарафанчике. Дура была, что ли?.. ни о шубах, ни о шапках зимних не помышляла… Нет, думала так: продам камешек хоть один маленький, хоть брильянтик – и целый год на него проживем… Добрались до Волги, до Сталинграда. Господи!.. весь разрушенный… Одни руины, обломки… Стоим на пристани и плачем с доченькой. Я сдала в скупку золотое кольцо со шпинелью шереметьевской… так пронзительно, подозрительно на меня в скупке, за стеклом кассы, заведующая глядела!.. шпинель вертела в толстых пальцах, то на камень глянет, то на меня… знаю, думку гоняет: не воровка ли я, не стянула ли где… но спас Господь… и купили два билета на пароход. В третьем классе купили… в восьмиместной каюте, вместе с цыганами-ворами, с бабками, что из Астрахани на рынок в Казань сахарные помидоры везли… да еще там дедок один был, красный, лохматый, все чесался, как пес блохастый… я лишь сейчас вот догадалась: чесоткой хворал… Как мы-то с доченькой заразу не подцепили!.. Цыгане напились пьяные и горланили: мать, мы у тебя девчонку украдем!.. Она нам шибко приглянулась… Глазки у ней – голубые, как небо… Будет с нами милостыньку просить!..
Я всю дорогу не спала. Люсичку к себе прижимала… Так и лежала, без еды-без питья, на верхней полке… даже в клозет не ходила…
Когда пароход приставал к васильсурской пристани, была уж глубокая ночь. Три часа ночи. Звездное небо… алмазы по черному крепу рассыпаны… аметисты, изумруды, жемчуга… и я Люсичкину руку в одной руке держу, в другой – чемодан. А в чемодане – все наше счастье… вся наша жизнь: наша еда, и наше питье, и наше последнее сокровище: это не золото-самоцветы – это наш дом, и Люсина учеба, и Люсино приданое на свадьбу, и колясочки да ползунки моих будущих внуков, и наш сад-огород, и… кха!.. кх, кх, кх-х-х-х… ха-а-а…
Вышли. Пристань плывет под ногами. И звезды над головой плывут… И это Люсичка громко плачет, а не я… Плачет: мамочка, это вот Россия?.. Это Россия?.. А почему тут так холодно? Я, плачет, домой, в Ташкент хочу…
Куда среди ночи пойдем? Я стала искать улицуБольшую Покровку, где у нас родовой наш дом стоял. В лунном свете призрачном… ноги сбиты в кровь за долгий путь, обувка тесная, жесткая… по камням мостовой пошли, побрели… Это ведь не просто мостовая у нас в Василе; это – слезная дорога, каторжная, Владимирка… Пол-России по ней шло на восток в кандалах, и цепи гремели… Добрели. Покровка как мертвая под синей Луной… молчит… Дома молчат… Подошла к нашему дому. Встала на колени… Гляжу: над дверью – табличка… Библиотека… Счастье, летняя ночь была, теплая, мы заночевали на крыльце нашего бывшего дома… как две кошечки бродячих… головы положили на чемодан, я укрыла доченьку своим телом, подолом платья ситцевого, так и продрожали…
И что?.. Да ничего… ничего. Стали жить. Здесь, в Василе… Домик старый, ветхий купили, чтобы подозренья не вызвать, что, мол, богачки прикатили. Железный ящик мой я в саду, под яблонькой, закопала. Под розовым наливом… Запомнила место. И дочке его сказала. От обысков сберегли. От местных бандитов… Никто ничего все годы не знал… ничего… Работать я устроилась в библиотеку, чтобы, значит, внутри дома своего наследного каждый день пребывать… Иной раз даже ночевала там, среди книг… в потолок смотрю, а там такая трещинка родная, я все на нее глядела, когда маленькая была… и мне казалось: из этой трещинки ночью – Ангел вылетает…
И – читатель один ходил, ходил. Хорошенькая я ведь еще тогда была. Ходь и с седыми прядями в косах, да… Все книжки брал про разведчиков читать. И фантастику. Про космос. Гагарин тогда в космос-то полетел. Модный этот космос сразу стал. Кучу книжек наберет, к животу прижмет, еле держит… И меня глазами ест. Будто бы я яблоко… ранетка… Я уж все поняла. Думаю, что ж одной куковать? Вот и новая семья у меня. Вот и спасает меня Бог еще раз… В Бога тогда никто не верил. Это сейчас все верят! А тогда – никто.
Вот я – верила… и Он меня спасал…
Свадьба у нас была шумная, на весь Василь. Муж мой, Ростислав Андреич, на пристани работал. Пароходы встречал и провожал. Я к нему на пристань вечерами приходила; обед ему в судках приносила. Он мне – ручку целовал… И я вздрагивала: так papa ручку mama целовал когда-то…
Ростислав Андреич на пристани – в колокол ударял… Он называл это: отбить склянки… Ему не нравилось, что я курю. Я когда курила, от него дым рукой отгоняла… вроде как комаров… Он мне все пенял: ты, Саня, загремишь с туберкулезом легких, если так будешь смолить! И что? Видите, живу. Доктор Борода мне эликсир от кашля пропишет… да лучше сигаретку выкурить, легче мокрота отойдет, кха-кха-а-а-а…
От Славы я сыночка родила. Веничку. Ах, Веничка!.. Веничка-а-а-а-х-кха-кха-кха… Хороший мальчик. Он для меня и сейчас мальчик… матери сын всегда мальчик, даже если и седой уже… Веничка меня очень любит. Он со мной жить в Василе остался, никуда не уехал. А Люсичка уехала. В Нижнем замуж вышла. Пять внуков у меня. Пять… ровно пять… как нас, детишек Беловых, было – пять… Четыре девочки и мальчик… Аня, Лиза, Аленка, Коля… и – Саня… Молодцы… молодцы… в честь бабушки младшенькую назвали…
Ростислава Андреича я давно похоронила. Уж четверть века без него живу. Как один день… И вся-то жизнь – один день… да одна ночь… Иной раз хожу к нему в Лосев переулок. С палочкой, медленно, по шажочку… добреду. Плачу на могилке…
Я уж давным-давно для Василя – старуха Сан Санна. Трудно народу выговорить: Александра Александровна, я понимаю, трудно. Сан Санна, так легче… Меня еще в прошлом году на Волгу, на пляж, на песочек, дети, Люсичка и Веничка, в кресле спускали: кресло со мной – по тропинке крутой – на руках несли! Они несут, а я смеюсь, дребезжу беззубым ртом: вы меня прямо как шахиню в паланкине тащите… по-восточному… а они мне: ну, так ты ж восточная у нас дама, мамочка, ты ж ташкентская пери! Гурия… А мы два твои слона, ты катишь на слонах… нет, на верблюдах! Мы верблюды твои! Ах-ха-ха-ха… кха…
А на пляже сижу в кресле, под белым зонтиком. Как встарь. Как – до революции… Люсичка зонтик кружевом обшила. Ветер кружева треплет… Река течет…
Ох, о-о-о-ох… Лучше затяжки хорошей в мире нет ничего…
А спросите, где мои драгоценности?.. Да где, где… Уж все проели-пропили… Уж все раздала-раздарила… Дарю и говорю: людям нужнее, чем мне. И вижу еще, пока не слепая, людские улыбки! И слышу, пока не оглохла, ахи и охи восторга! Как мало человеку надо на земле для счастья! А что, думаю, для сердца в камешке том?.. Денег стоит?.. не то это все, не то… Радость? Красота? Память?.. Человек изобрел на земле сокровища, и в них, дурачок, обращает свою жизнь. А жизнь-то – самое ведь драгоценное, а не эти цацки, ляльки, побрякушки… Так все алмазы-рубины и разбежались, как мышки с корабля… Так потихоньку и рассосались… Немножко осталось. Не в железном ящике уже – вот тут, в самосшитом мешочке… теперь – не надо в землю закапывать… теперь – никто не отнимет… я мешочек в палехской расписной шкатулке держу, в комоде. Вот на лето внучек привезут – я им последние бирюльки и раздам. Анечке – шереметьевский сапфир… Лизочке – золотую цепочку… Аленушке – браслет с брильянтами… а Санечке, тезке – изумрудное колье Императрицы… Иногда развяжу мешочек, гляжу на последние мои камешки старыми своими, подслеповатыми глазами, и думаю: а ведь это не камни, это мои слезы, они просто застыли и отвердели… это моя кровь и кровь мужей моих бедных… она просто засохла, стала жесткой, прозрачной… и сверкает… и жжет… а-ха-кха-кха-кха… Кха!.. кха…
СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО. МАТЬ ИУЛИАНИЯ
Кирке я седни даже волоски беленьки на лобике расчесала! Она так довольнехонька была, коровеночка-та моя. Чешу и приговариваю: ох ты, матушка моя, коровушка родна! Молочко ты нам с батюшкой даришь, да вот щас и сыночка нашево молочком да сметанкой, да творожком свеженьким потчуишь! Ах ты, царица ты моя, царицочка! Вижу: ндравится ей. Стоит, башку опустила, иной раз ласково так мумукнет. И в хлеву-та у ней все ухожено у миня, все вычищено, вымыто, загляденье; матушка Михаила сама б прибыла да полюбовалася – похвалила б миня, грешну, как я в хлеве-ти все чудно уделала!
Сажуся доить. Ручонки-ить у миня чисты всегды. Белый платочек крепко на затылке завяжу. Ведерышко тожа чисто, ажник блестит внутрях, как поповскай ризник. Стоит Кирка, голубка моя! Ножки-ти расставила, штоб мине, значитца, сподручней было. Дою. Титьки тугия. Вымя молоком полно! Ж-ж, ж-ж, ж-ж, – звенит молочко об днище. Господи, слава Тебе! С едою мы! Пущай их власти цены повышают! А коровеночка наша нам с голоду помереть не даст!
Подоила Кирку, значитца. В избу взошла. Гляжу – старо-то млеко уж в банках створожилося. Будит седни творог у нас свеженькай, будит!
В марлю кладу, отжимаю… Грудами грудицца, белай, желтай, ах, вкуснай…
И тут Никитка в кухню всходит.
– Ауська, – грит, – эа и ааок эась?..