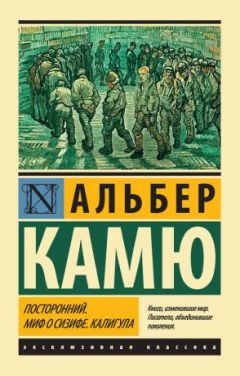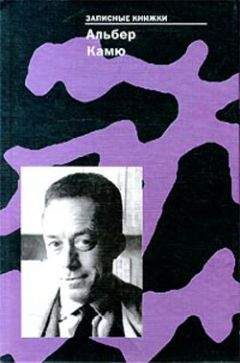Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Толковых да работящих в армию берут, а вохра – это всё накипь, помои.
Ося не согласилась, но спорить не стала, там, где у Катерины имелось мнение, она стояла насмерть. Зато там, где мнения не было, слушателем она была превосходным: внимательным и думающим. С первого же дня она потребовала, чтобы Ося поправляла её речь, с восторгом слушала рассказы про художников и картины, с первого раза запоминала понравившиеся стихи. Раздобыв где-то чистую конторскую книгу, потребовала, чтобы Ося по памяти воспроизвела ей «Боярыню Морозову», «Утро стрелецкой казни» и ещё несколько картин, описания которых ей особенно понравились. Про себя она говорила неохотно и кратко, за первые два месяца знакомства Ося узнала лишь, что Катерина из раскулаченных, из ссылки дважды сбегала, первый раз – в тринадцать лет, тогда её просто поймали и вернули. Второй – в шестнадцать, когда её, теперь уже совершеннолетнюю, отправили в лагерь.
Кроме амбарной книги, она притащила Осе почти новый красно-синий карандаш и кисточку. Когда Ося заметила, что красок нет и вряд ли возможно их раздобыть, Катерина только хмыкнула презрительно:
– Всё-то вы знаете, городские-образованные, где чего было да как что устроено, а как до дела дойдёт – пусто. Красного цвету я тебе из коры ольховой изготовлю или из конского щавеля, из корней. А синего – из девятисила, жаль вот зима только, до лета ждать, потому как смола ещё нужна свежая. А карболки можно у лепилы [56] выпросить, нам и нужно-то всего ничего.
– Откуда ты всё это знаешь? – изумилась Ося.
– Откуда, откуда, из жизни. Мать холстину красила, нас пять сестёр было, каждой по платью, да разные хочется.
– А где сейчас твои сёстры? – спросила Ося.
– Нигде, – угрюмо сказала Катерина. – Младшие обе в первую же зиму и помёрзли, старшая, Татьяна, от тифа умерла. А Настя, что со мной бежала, в лагере прошлый год отравилась. Тогда много народу померло, я сама чудом выжила.
– Расскажи, – попросила Ося.
– Не больно весёлый рассказ-то.
– Мне и не нужно весёлый. Мне нужно честный. Чтобы понять.
Катерина помолчала, поджав губы, потом решила:
– Ладно, расскажу. Вдруг да поймёшь, за какие грехи нам такие мучения. Вот, слушай. В двадцать девятом нас раскулачили, из первых. Мне аккурат тринадцать исполнилось. Хозяйство у нас крепкое было, три лошади, две коровы с телёнком, земли пятнадцать десятин, изба каменная – и всё сами, всё своими руками, отродясь на нас никто не батрачил. Избу миром строили, да ведь так испокон строят, миром. Когда стали народ в колхозы загонять, отец и говорит, поспешать не будем, посмотрим сначала, что это за колхозы такие. Вот, насмотрелись. В ноябре приехали трое из района, все в куртках кожаных, с револьверами, суют отцу бумажку под нос, мол, собирайся, Иван, пришли тебя выселять, как ты есть первостепенный кулак. А мы обедать сели как раз. Сёстры повскакали, заголосили, мать тоже плачет, а отец всё щи хлебает, вроде как и не слыхал. Только желваки у него так и ходют, так и ходют. Это уж потом я поняла, передерживался он, ведь здоровый был, лошадь мог поднять, убил бы всех троих почём зря. Потом встал, пошёл инструмент собирать, топор там, пилу, а ему говорят, нельзя, только одежды смену да еды на три дня. Собрались, посадили нас на подводу, да в район, две недели в бывшей церкви держали, не топили, не кормили, кипяток только. Холодина, сестрёнка меньшая, Анютка, как пошла кашлять, жаром так и пышет, а доктора не допросишься.
Через две недели нас на станцию привезли, по вагонам пораспихали. Как уж мать их упрашивала Анюту доктору показать, не позволили. Пять дней везли нас. В вагоне выстыло всё, жуть, отец с себя всю одёжу поснимал, Анютку закутать, в одной рубахе остался. А она не ест, не пьёт, всё кашляет да плачет. На третий день затихла, я думаю, слава богу, перемоглась, уснула. Тут слышу – отец молитву поминальную шепчет…
Она замолчала, громко сглотнула, глядя в пол.
– Если не хочешь… – начала Ося, но Катерина отмахнулась, заговорила снова бесцветным тусклым голосом:
– На пятый день выгрузили нас, погнали пешком, дорога-то – лежнёвка, телеге не проехать по ей. Мороз страшенный, а нас всё гонют и гонют, бабы, дети, им всё едино. Загнали в самый лес и говорят, мол, костры разводите, землянки ройте, здесь вам местожительство определено. Ну, мужики взялись пилить. Как они работали, никогда больше не видала я, чтоб так работали. За три дня нарыли десять землянок, и всё по мерзлоте. А отец ещё и стены жердями выложил, дымоход прокопал – откуда силы брались у него, не знаю.
Вот. Стали жить, на лесоповале работать. Есть нечего было совсем, народ десятками помирал, носить едва успевали. Сестрёнка Паша заболела и умерла. У нас только Паша, а люди семьями вымирали. Весной тиф начался, как пошёл косить. Вода была плохая, да пока начальству доложили, пока тракт наладили воду возить, опять народу выкосило, нашу Татьяну тоже, старшую нашу. Осталось нас всего двое сестёр, я да Настя. Вот.
Дожили до лета, летом легче – грибы, ягоды, тут щавеля насобираешь, там крапивы. Картошку посадили. Я думаю, теперь уж перебьёмся, а отец говорит: «Беги, Катерина, не выжить нам здесь». Кольцо мне материно отдал, обручальное, мать его спрятала, сберегла. Я и побежала, недалёко только: на станции хотела кольцо продать, билет купить, тут меня и заловили. Тётка, что кольцо купила, милиционера и позвала, чтобы не платить, значит. Продержали меня неделю в кутузке, побили маленько и вернули обратно.
Через три года вместе с Настей побежали мы, мне семнадцать почти, ей пятнадцать. На юг решили, в тёплые края, там прокормиться легче. Она всё до моря хотела добраться, так уж ей хотелось море повидать. Добрались до Оренбурга, там старуха одна, из бывших, пожалела нас, приютила, вроде как мы племянницы её. Работать без паспорту не пойдёшь, так мы старухе помогали, она цветы бумажные делала и венки на похороны, на родительскую. Год почти у неё прожили, и ничего, не донёс никто. Голодно было, правда, на цветах-то много не заработаешь, да мы уж привычные были. А потом Кирова убили, да как пошли всех сажать. Вроде как трохцист какой главный в Оренбурге жил, по его указке убили. По всему городу воронки так и ездют, всех бывших ворошат, добрались и до старухи нашей, ну и нас с ней заодно. Без документов, откуда взялись – не говорим, что тут и думать, посадили. Дали пять лет за агитацию, и в Джезлаг. Я их спрашиваю, какую такую агитацию, за кого? Не за кого, говорят, а против кого. Раз ты назваться не хочешь, значит, есть тебе, что от советской власти скрывать, значит, ты контра. Потом всё равно дознались, кто мы есть. Вот, посадили. Настасья животом маялась, помирала, я с зоны сбежала, хотела до доктора добраться, лекарства выпросить. Доктора не нашла, с пустыми руками вернулась. А они сказали – побег. И мне ещё десятку добавили. Пять лет уж сижу, и ещё десять мне сидеть, ежели опять не накинут. Вот такая моя история.
Она глянула на Осю отчуждённым неподвижным взглядом. Ося опустила голову, вытерла кончиком платка внезапно выступивший пот.
– Молчишь? – усмехнулась Катерина. – Вот и я молчу. И все молчат. Ладно, всё, давай лезь на свою верхотуру. Спать хочу.
2
С началом войны в лагере ужесточили режим, отключили радио, из красного уголка исчезли газеты. Вольнонаёмным запретили разговаривать о войне с заключёнными. Зека, осуждённых по политическим мотивам, сняли со всех ответственных должностей, ограничили свободу передвижения по территории лагеря. Началась усиленная экономия горючего и других материалов. Если раньше получить новую телогрейку или ботинки взамен развалившихся было трудно, теперь это сделалось невозможным.
В конце августа прибежала Наташа, рассказала, всхлипывая, что лагерь расформировывают, женщин переводят в Ухтижемлаг, а мужчин разбрасывают по разным лагпунктам, и, судя по всему, им с Володей придётся расстаться.
– На полгода только, – попыталась утешить Ося, но Наташа разрыдалась в голос, сказала: