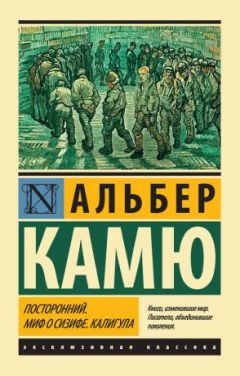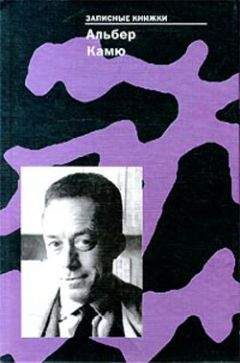Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Я не сержусь, – сказал я, – как можно. Но мне за Ольгу Станиславовну обидно.
– Я тебе так скажу, я ведь Ольгу тоже знавал. Конечно, право её было такое не пойти с нами, насильно, как говорится, мил не будешь. А только получилось, вроде как мы все вместе лодку строили, смолили, конопатили, а как на воду спускать – так раз, одна доска и отвалилась. Посуди сам, как такая лодка поплывёт. Обиды я на Ольгу не держу, сколько уж лет прошло, чего уж теперь, но, думаю, неправа она была. Не хотела – так и сказала бы наперёд, не ждала бы до последнего. Глядишь, кого бы другого вместо неё нашли, кто бы другой спасся.
– Она тоже спаслась, – заметил я.
– Это верно. Да только в каком годе она свободной стала? В пятьдесят третьем? А я в сорок шестом. И я тебе так скажу, парень. Я бы в лагере ещё семь лет не выжил.
Он замолчал, задумался, я тоже притих, пытаясь разрешить неразрешимое, свести вместе Осину и его правды.
– А что вам труднее всего было? – спросил я Василия Ивановича.
– Труднее всего? – задумчиво повторил он. – Да первых года два всё трудно было. Обустраиваться трудно. Друзей хоронить трудно. За всех не скажу, но мне трудно пришлось, когда понял, что нет никакого Того Города, что мы и есть Тот Город. У меня в Пскове жена осталась, дочка. Я всё думал, вот найдём Тот Город, я исхитрюсь как-нибудь да их к себе заберу. Не забрал. Сюда не заберёшь. Толя наш, Анатолий Петрович, ушёл за женой и сыном, и всё, пропал человек. У нас договорено было, он Володькиному отцу открытку пришлёт, ежели найдёт их. Не прислал. То ли не дошёл, то ли опять сел.
– Псков недалеко от Ленинграда, я могу съездить, разузнать, я всё равно сейчас в академке, – предложил я.
Он вскочил, прошёлся по кухне, достал из печки забытый нами, почти полностью выкипевший чайник, снова сел, протёр ладонями лицо и сказал глухо:
– Да нет, паря, назад жизнь не откатишь, чего уж теперь. У меня вон Иван, да Васька, и Дарья моя, покойница, хорошая была женщина. Так что спасибо тебе, не надо.
– Не скучно вам? – спросил я. – Тридцать с лишним лет с одними людьми, в одном месте.
– Скучно? Некогда нам скучать-то, да я и привык, моего веку сколько осталось. Молодёжи скучно, наверно, но это уж пусть сами решают, это уж не наше дело.
– А как вы поняли, что Того Города нет?
– Я-то? Я, парень, просто понял. Пошли мы как-то с Андреем силки проверять, а они пустые, и след по снегу, сторожкий, а всё заметный. Мы, значит, по следу пошли, а там два мужика, один другого тащит, сам еле идёт. Видно, что загнутся оба скоро, и видно, что лагерные, из наших, из зека. Стали думать мы с Андреем, что делать. И оставить их нехорошо, раз – помрут, два – вохра по следу набежит, и к себе забрать тоже непросто, что за люди, польза нам от них будет, или так, лишние рты. Тут этот, что тащил, тоже на снег повалился и не встаёт. Андрей говорит, подождём, пока помрёт, и снегом завалим, а мне не по душе, не по-людски. Уговорил его, притащили мы их к себе. Тот, кого тащили, всё едино помер. А второй выжил. До сих пор с нами. Костя такой. Ты его не видал, он по зиме в тайгу на зимовье уходит, не может под землёй долго быть, душа восстаёт. Вот Костя этот и сказал, мол, слухи ходили в лагере, есть Тот Город, вот мы и пошли вас искать. Я говорю, почему нас-то, а он удивился, спрашивает, разве это не Тот Город? Разве ещё есть? Тут я и понял.
– Но ведь слухи ходили ещё до вашего побега?
– Про то, парень, не скажу тебе, над тем много лет голову ломал да бросил, что без толку ломать.
Глава девятая
Война
1
В начале июня Осю вернули из слабкоманды в лагерь. Наташа обрадовалась, принялась рассказывать последние лагерные новости, кто умер, кого перевели на другой лагпункт, кто выбился в придурки – так называли в лагере заключённых, занятых на лёгких работах. Ося слушала вполуха, смотрела на счастливую, стесняющуюся своего счастья Наташу и думала о Янике. Пять лет кончились ещё в феврале, теперь он мог писать ей, скорее всего, уже написал и не раз. Что подумает он, не получив ответа? Решит, что она бросила его, предала? Напишет на фабрику или соседке? Соседка, наверное, ответит, и тогда он узнает, что ребёнок умер, а Ося в лагере. Как справится он, как переживёт? Как будет искать её? Редактор в Детгизе сказала, что она друг Яника, можно написать ей. Но писать из лагеря – значит, ставить под удар чужую жизнь, жизнь хорошего человека, и так уж, может быть, висящую на ниточке.
– …в Ленинград, – сказала Наташа, и Ося вздрогнула.
– Ты меня совсем не слушаешь, – обиделась Наташа.
– Прости, что-то мысли разбегаются, – извинилась Ося.
– Какая-то ты не такая стала, Оля. Ты раньше была как струна, вся звенела, а сейчас даже не дребезжишь.
– Красиво, – усмехнулась Ося. – Да только звенеть нет толку, всё равно не дозвенишься. Так, говоришь, Владимир Сергеич попросил у жены развод. И что теперь?
– У него срок через десять месяцев кончается, если не добавят, он выйдет на поселение, и мы поженимся. Тогда можно и ребёнка завести, представляешь, Оль?
– Представляю, – через силу сказала Ося. – Поздравляю.
Наташа ушла, недовольная и обиженная. Ося легла на нары, подумала со вздохом, что завтра опять начинается лесоповал и что Наташа права, что-то сломалось в ней, порвалась какая-то очень важная струна, и как поправить это, она не знает.
То ли Ося откормилась в слабкоманде, то ли новая напарница работала хорошо, но всю первую неделю они перевыполняли норму и даже получили двести ударных граммов в конце недели. Новую напарницу звали Даша, её забрали с третьего курса мединститута. На студенческой вечеринке её подвыпивший приятель рассказал анекдот. Утром, протрезвев и вспомнив, он в ужасе помчался в НКВД доносить сам на себя, прежде чем кто-то другой успеет донести на него. В НКВД его понимающе выслушали, посмеялись и ласково попросили составить список всех присутствовавших на вечеринке. Приятель отказался, но собеседники проявили настойчивость, и через месяц за решёткой оказалась вся компания, все семнадцать человек, включая Дашу. Сама Даша пресловутый анекдот впервые услышала от следователя; когда его рассказывали, она делала бутерброды на кухне.
– Был бы хоть анекдот хороший, – смешно тараща глаза, возмущалась она. – А то чушь какая-то, вот послушай. Одна старушка впервые в жизни увидела верблюда, заплакала и говорит: «Посмотрите, до чего советская власть лошадь довела».
– Чушь, – улыбаясь, согласилась Ося. Даша ей нравилась. В ней не было ни Осиной тяжёлой ненависти, ни Наташиного тоскливого недоумения, лишь спокойное приятие удара судьбы и железная решимость этот удар выдержать.
– Бывают хорошие времена, бывают плохие, – сказала она Осе. – Нам выпали плохие, что ж делать. Надо жить, может быть, ещё доживём до хороших.
«Не бывает плохих времён, бывают плохие люди», – хотела ответить Ося, но промолчала, забралась на нары, улеглась и закрыла глаза. Безразличие и равнодушие, что окутали её, словно облаком, после смерти Таньки, сгустились за прошедший год в толстую непроницаемую вату, она задыхалась в этом коконе, но выбраться не было ни сил, ни желания. Кокон мешал дышать, но и чувствовать тоже мешал, ей больше не было ни обидно, ни больно, ни страшно, ни грустно – ей было холодно, голодно и всё равно. Наташа перестала к ней приходить, Даша поглядывала осуждающе, Ося молчала. Молча вставала, молча выпивала свою утреннюю чашку кипятка, молча съедала пайку, молча шла на лесоповал, в полном молчании десять часов пилила здоровенные, не обхватишь, сосны. Вечером молча тащилась обратно в зону, молча выхлёбывала в столовой баланду.
Первые месяцы после освобождения Яника она ждала писем, бегала к почтовому столбу, перечитывала по нескольку раз неуклюже накарябанные на фанере фамилии, потом ждать перестала. Только заветная тетрадка и три карандаша всё ещё немного согревали ей душу, вызывали хоть какие-то, смутные, сложные, печальные, но всё же чувства. Иногда поздно ночью, если даже смертельная усталость не проваливала её в сон, если не спалось и никакой кокон не помогал, она перелистывала тетрадку, рассматривала при тусклом свете барачной, никогда не гаснущей лампы полустёршиеся наброски ленинградских мостов и набережных и не верила, что когда-то жила в далёком прекрасном городе, ходила в театры и на выставки, рисовала, любила и была любима.