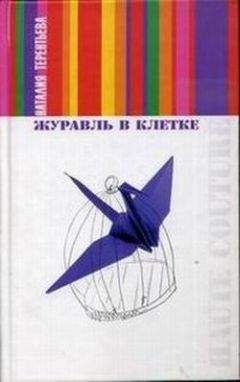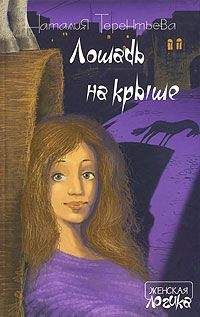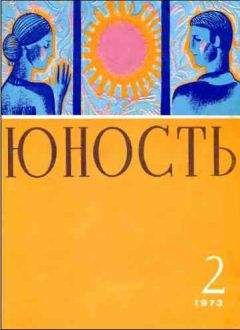Наталия Терентьева - Училка
— Прикольно! Ой, блин…
— А вы мне за одно «прикольно» на балл снизили! А надо за два!
— А покажите!
— А где эта программа?
— Да ладно, гонит она!
— Вот молодец, кто сейчас орал. Еще добавим слово «гонишь, гонит». Вы говорите, говорите, детки, мы такую отличную программу сделаем, на всю Москву и даже Россию ее распространим. Семен Будковский у нас ответственный за сбор слов.
— Чё я?
— Семен! — одернула его Катя. — «Чё» нельзя говорить!
— Чё-о-о? Нельзя говорить «чё»? А чё тогда говорить?
— Ничё не говорить, Сеня! — засмеялась я. — Ротик на замочек, если из ротика вываливаются одни блатные словечки. У нас же не лагерь?
— Чё — не-е?
Нет, не поняли, не поверили. Ладно. Придумала на ходу, не очень умно. Они в этом смысле подкованные. Но ведь могла бы быть такая программа? «Блин»-улавливатель…
— Руки поднимите, не орите на морозе, кто музыку нашел.
Поднялось несколько рук.
— Послушайте вдвоем, втроем, она недлинная.
Дети сгрудились по двое, по трое, Слава Салов стоял в сторонке, прислонившись к дереву, в наушниках. Вряд ли он слушал Чайковского. Да и пусть. Я не стану повторять ошибки коллег, гнать свой караван со скоростью последнего верблюда. Нет у того верблюда сил или желания — пусть плетется в конце. Идет же, не падает. Жестоко? А не жестоко заставлять одаренных и просто старательных детей каждый день принимать участие в постановках, которые со всей своей нерастраченной на учебу энергией разыгрывают те, кто не хочет или не может учиться? Максимум внимания — тому, кто встревает со своей темой на уроке, кто играет, кто на уроке переписывается с товарищами, сидящими в соседних классах. Почему? Я обязана научить всех, всех увлечь?
Мне иногда кажется, что по какому-то негласному закону я обязана научить именно тех, кто учиться не хочет. А кто хочет — и так научатся, походя. Соберут крошки со столов тех, кто в школе веселится. Услышат, когда я говорю Славе Салову, всё ползущему и ползущему по парте своим большим телом, Сене Будковскому и таким же героям из других классов. Я лучше, для поддержания рейтинга школы, в самый последний момент исправлю им тройки на четверки в конце четверти. Да, не очень справедливо по отношению к тем, кто эти четверки честно зарабатывал. Но стараться, тянуть на четверки Салова, Будковского, Шимяко, Громовского, похожих друг на друга «Лолит» я не буду. Возможно, это синдром неопытного водителя, сидящего за рулем второй месяц. «Да я вас сейчас всех обгоню!» Так и я, наверно. Второй месяц в школе, полна революционных идей, уверенности, что я смогу то, что не смогли другие.
— Ой, прикольный музончик… — Неля покачивалась в такт музыке, хотя там внятного ритма, разумеется, не было.
— Ан-Леонидна! — заорал Будковский. — А я не понял, мне, чё, считать все слова? Кто чё сказал?
— Считай, Сеня, — кивнула я. — Ты сам только что два раза «чё» сказал.
— Я? — удивился Будковский. — Ладно, не буду! Я Нельку запишу, да?
Я подумала, что попозже проанализирую такое неожиданное рвение Будковского. Просила-то я его, кстати, о другом — о составлении «словаря» запрещенных в нашем классе слов. Ладно, сейчас просто соглашусь.
— Кто что услышал? О чем музыка? — спросила я, пытаясь сосчитать стоящих передо мной детей. Что-то маловато. Было с утра, когда садились в автобус, двадцать три плюс мои архаровцы. Минус четверо греются в музее… А передо мной сейчас — три, еще три, четыре, это девять, нет десять… А мои-то где малыши? Что-то их не слышно…
Где-то рядом, мне показалось, за деревьями, раздался громкий лай собаки.
— Не-е-е-ет! А-а-а-а… — закричал ребенок.
«Никитос!» — стукнуло меня подсознание, когда я еще не успела разобрать, мой ли это ребенок.
— А-а-а-а-а-а! — тут же завторила Настька. — Ма-а-ма-а-а…
Я ведь их голоса не спутаю ни с кем. Кричали они громко и испуганно. И страшно лаяла собака. Или собаки. Но ни детей, ни собак я не видела.
— Что? Что там? — бросилась я туда, откуда доносился лай.
За деревьями никого не было. Просто в тишине хорошо разносились звуки. Заснеженная территория усадьбы с огромными деревьями просматривалась не вся, но звуки явно раздавались с другой стороны — со стороны улицы. Собака продолжала лаять, дети — кричать. Настя уже просто визжала.
— Настя! Никитос! — кричала я на бегу.
Я услышала за своей спиной топот — кто-то из семиклассников бросился за мной.
Я выбежала за ограду. Довольно далеко от входа в усадьбу огромный рыжий пес трепал Никитоса, который, отбиваясь руками и ногами, уже лежал на большом сугробе. Рядом металась Настька, пытаясь подойти к псине с разных сторон. Поблизости стояли четыре или пять собак, не приближаясь, но громко и угрожающе лая на детей.
— Я здесь! Настя! Я… — прокричала я, оглядываясь. Ни одной палки. Надо отломать ветку. Позвать шофера. Нет, на это нет времени. У шофера может быть металлический прут. Но где же автобус? Он отъехал. Вот там жилые дома, кто-то, может быть, выйдет. Никого на улице. Пол-одиннадцатого утра. Где же люди? Мысли путались в голове. Я никак не могла добежать до детей. Упала, встала, побежала снова. Мне показалось, что Никитос уже перестал кричать.
— Господи! Никито-ос! Я сейчас, сейчас! Я…
Я подхватила какой-то прутик, лежащий на земле, хилый, но теперь хоть что-то было в руках.
— А-а-а-а! — Вдруг услышала я чей-то крик. И меня обогнал мальчик, я даже не сразу поняла, кто это. — А-а-а-а! — кричал он и мчался на собак.
В руках у него была палка и что-то еще. Подбежав, он изо всех сил бросил большой камень. Мне показалось, что в Никитоса.
— Ты что делаешь? Ты что? — закричала я, снова упала — скользкая, ни разу за зиму не убиравшаяся от снега дорога не давала бежать. — Ты…
Но мальчик огромным камнем попал в собаку, та заскулила, отскочила, зарычала, обернулась на него. Мальчик поднял другой камень, швырнул его еще раз и изо всей силы стал махать палкой, так же крича «А-а-а-а», попал собаке по носу. Она окрысилась, залаяла, но попятилась. Ее товарки, приблизившиеся было уже к детям, тоже стали кучкой отступать, продолжая рычать и лаять.
— Никитос! — бросилась я к сыну. Мне показалось, что его лицо в крови. Нет, просто в грязи. Куртка была порвана, вкупе с разорванными утром штанами Никитос казался весь в лохмотьях. Шапка валялась в стороне, голова была в снегу.
Настька, рыдая, бросилась к брату. Никитос сел, дрожа, на сугробе.
— М-м-м-мам-м-м-а-а-а… — пытался выговорить он. — Н-н-н-ет… н-н-нет…
— Что — нет? Сынок! Ты испугался? Ты можешь говорить? У тебя ничего не болит? — причитая, я оглядела Никитоса.