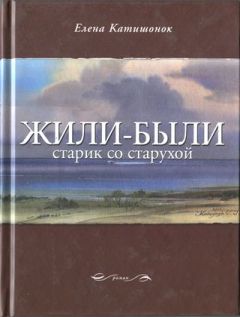Михаил Шишкин - Письмовник
Хочется уйти ото всех подальше и одиноко побродить. Невозможность остаться одному угнетает.
Поругались сегодня с Глазенапом — он приставал с разговорами, не понимая, что мне просто иногда нужно поразмышлять, послушать тишину, побыть одному. Теперь вот он хмуро и зло ходит маятником по комнате.
Иногда приходится много писать — как вчера. Рука устает, болит, суставы кисти ноют. Стараюсь писать мельче, чтобы не так уставала, но на меня кричат, чтобы писал крупнее. А при этом от жары пот капает на бланки, размывает буквы. Бумаги прилипают к руке. Размажешь буквы, приходится снова все начинать. Опять ругань.
Еще неприятно, что от письменной работы в темноте, а писать приходится много по вечерам, когда уже стемнеет, очень болят глаза. Пишешь при свете огарка, напрягаешь зрение, и все начинает мерцать, двоиться. Когда вернусь, придется пойти к врачу, наверно, выпишет мне очки.
И все никак невозможно привыкнуть к этим спискам. Переписываю фамилии и представляю их семьи, матерей. И никто им не сможет объяснить, зачем это все было надо.
От войн все равно остаются только фамилии генералов. А об этих, моих, никто и не вспомнит никогда.
Читал когда-то переписку Абеляра и Элоизы, и меня тогда впервые поразило, что есть известные жертвы, и есть неизвестные. Вот с Абеляром произошло несчастье, его грубые жестокие люди оскопили. И весь мир с тех пор сотни лет его жалеет. И еще сотни лет будет жалеть. А в том же письме он рассказывает, что тех, кто его истерзал, схватили, причем один из них был его слуга, который жил у него годы. Представить только, как же по-скотски надо было относиться к своему слуге, чтобы он так тебе отомстил? Так вот, этих не только оскопили в отместку, но еще и ослепили. И никто их не жалеет и не вспоминает о них, хотя им еще больше страдать пришлось.
Переписываю эти списки и думаю — этих ведь тоже никто никогда не пожалеет.
Помнишь, как назвали своего сына Элоиза и Абеляр?
Астролябий.
И что потом с этим Астролябием стало? Тоже ведь, наверно, хватило бы на целого Гамлета. Но никто не напишет. Кому он нужен? Кто его вспомнит?
Ну вот, я вспомнил его и пожалел. Может, он умер, не мучаясь.
Вспомнил сейчас мою бабушку. Это она вот так всегда переживала за умерших. Когда кто-то рассказывал о том, что какой-то человек, знакомый или даже незнакомый, умер, она всегда хотела узнать, как именно он умер — хотела, чтобы у него была безболезненная легкая смерть, желала ему, чтобы он поменьше мучился. Мне это тогда казалось смешно и глупо: человек уже умер, Бог знает когда, а кто-то желает ему вдогонку легкой смерти.
Глазенап вывел меня сегодня из себя. Разве не смешно тонуть в дизентерийной яме, в которой в любую минуту тебе могут оторвать голову, и размышлять о своем бессмертии?
Сидит и убеждает себя:
— Вот меня не было — и это была не смерть, а что-то другое. А потом меня тоже не будет. И это тоже не будет смерть, а то самое — другое.
А я сказал:
— Хлоп по ушам!
Он ничего, конечно, не понял, а я не стал объяснять. Все равно не поймет.
Он не понимает, что все на свете религии и философии просто пытаются заговорить смерть, как бабы заговаривают зубную боль.
Наверно, так: тело борется со смертью болью, а мозг, сознание — мыслью. Ни то, ни другое в конце концов не спасет.
И самое главное — то, что я теперь знаю: и у Христа, и у Сиддхартхи из рода Гуатамы был открыт рот — как у всех мертвецов. Очень хорошо теперь представляю их мертвыми. Запросто. И мух очень хорошо представляю себе, гудящих во рту. Вот эти мудрецы всю жизнь учили о том, что смерти нет, о воскрешении, о реинкарнации, а им — хлоп по ушам! И Спаситель никого не может спасти, потому что никогда не воскресал и никогда не воскреснет. И Гуатама сгнил, как все, и никем не стал — никаким Буддой! И до этого миллиарды лет никем не был. И мир — это не сон, и я — это не иллюзия. Я — существует, и нужно сделать его счастливым.
У кухни стояла сегодня привязанная тощая лошадь — на мясо. Ждала, пока ее забьют. Обмахивалась хвостом, мотала головой. Все глаза были засижены мухами. Привязанное к двери кухни животное не знает, сколько ему еще осталось жить. И вот разница, которая делает человека человеком: мы — единственное живое существо, знающее о неизбежности смерти. Поэтому нельзя откладывать счастье на будущее, нужно быть счастливым сейчас.
Как же мне быть счастливым, Сашенька моя?
Я сейчас в любую минуту должен буду прерваться — едем на рекогносцировку, планы наступления на Тянцзин опять поменяли. Здесь все время все меняют, и ни в чем нельзя быть уверенным. Но раз штурм отложили, значит, кому-то посчастливилось пожить еще день-другой. Знать бы только, кому именно. Ничего, скоро узнаем. И что же они, наслаждаются подаренными двумя днями жизни? Вряд ли. Все на что-то надеются.
Приехали доктор с фельдшером, тоже поедут с нами, хотят посмотреть, откуда придется доставлять раненых. Слышу, как Заремба рассказывает что-то смешное, и все хохочут.
Вот видишь, нет времени спокойно поразмышлять. А так хочется подумать о чем-нибудь далеком, подальше от всего этого!
О чем я? О том, что нет времени.
Ну да, есть часы и минуты, а время — это ведь мы. Без нас время разве существует? То есть мы лишь форма существования времени. Его носители. И возбудители. Получается, что время — это такая болезнь космоса. Потом космос с нами справится, мы исчезнем, и наступит выздоровление. Время пройдет, как ангина.
А смерть — это борьба космоса со временем, с нами. Ведь что такое космос? Это ведь по-гречески порядок, красота, гармония. Смерть — это защита всеобщей красоты и гармонии от нас, от нашего хаоса.
А мы противимся.
Время для космоса болезнь, а для нас — древо жизни.
Странно только, что космосом назвали именно космеи — такие земные цветы, ничего в них особенного.
Что-то у меня живот крутит, прости за такие подробности. Боюсь, как бы не заболеть тифом. И голова раскалывается.
Ну вот, зовут, вечером допишу.
Саша!
Я вернулся. Уже ночь.
Руки все еще трясутся, прости. Я никак не могу прийти в себя. И в ушах все еще звенит от разрывов.
Не нужно тебе все это рассказывать, но не могу. Я слишком много сейчас пережил, чтобы держать в себе.
Там были наш новый батальонный командир Станкевич, глухой Убри, я тебе о нем рассказывал, наш доктор Заремба, фельдшер, еще один офицер, Успенский, совсем молодой, только сегодня пришел приказ о его производстве в прапорщики. Еще несколько штабных и солдат.
Этот Успенский болтал без умолку, но все время заикался. Говорливый заика. Его распирало от счастья, что его произвели. Даже Станкевич велел ему помолчать.