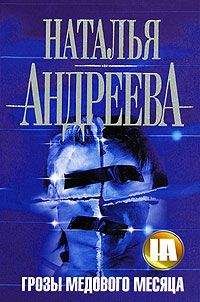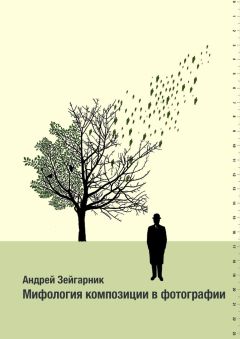Алексей Макушинский - Макс
— Город (думаю я…) — город справлял в тот день один из своих — неописуемых: разумеется — праздников; он вспомнил об этом: только сейчас. И вспомнив, стоял в растерянности, на тротуаре; и мимо шли люди, люди, толпы людей; и что-то кричали, что-то несли; и что-то вспыхивало, что-то светилось; и призрачным блеском отсвечивала мостовая, люди, лица, толпы людей, снег, снежная слякоть.
— Перейти эту улицу… как можно скорее.
Но перейти ее оказалось совсем не просто. Кто-то толкнул его, кто-то окрикнул, задел плечом, схватил за руку: и бесконечно далеким, недостижимым казался ему — противоположный, спасительный тротуар.
Он взглянул вверх: неба не было.
Был только разорванный флагами мрак, — и снег, и снежная слякоть, — и толпы лиц, и толпы людей, — и резкие крики, и красные отсветы… и когда он, Макс, вышел — вместе с толпою — на совсем и совсем широкую, безмерной ширью перед ним лежавшую площадь: — там совсем было странно, совсем было страшно; и длинные, косые полосы света кромсали и резали мрак, снег; флаги и лица; и пронзительно острым, ужасным было вдруг охватившее его чувство бессилия: перед этой толпой, этой площадью — этим городом, этой жизнью.
Но он все-таки вырвался из этой толпы, убежал с этой площади; и вскочив, может быть, в уже отходивший троллейбус, — и вновь, наконец, возвратившись домой, — закрыв дверь и задернув шторы: нет, нет — думал он — так не может, не может, не может более продолжаться.
Так не может более продолжаться… и после долгой, мучительной, наполовину бессонной, наверное, ночи, он, Макс, — на следующий день — не встал с постели и не пошел: никуда; почти до вечера пролежал он: лицом к стене, отдавшись: боли, отчаянию; и лишь через два, через три, через пять, может быть, дней, вновь (с тайной дрожью и не очень веря в успех…) — рано утром и по уже зимним, заснеженным улицам, отправился… нет, он вовсе не намерен был больше платить свою дань, но весьма решительно и вопреки всем препятствиям и всем возражениям, выговорив себе — у ненавистно-неописуемого — целый год свободы (что, в конечном счете, оказалось совсем не так трудно, как он ожидал…) — вновь, теперь уже окончательно, возвратился домой, — вошел в комнату, закрыл дверь, задернул шторы, помедлил… осень (думаю я…) — осень, введение, кончилась, зима же, действительно, началась.
33
И вот так (думаю я теперь…) — вот так, раскачиваясь: между выходом в мир и уходом в себя, — то устремляясь вперед, то поворачивая обратно, — вот так и движется наша жизнь: куда-то.
Зима началась, следовательно; — но если (так думаю я теперь…) — если предыдущая зима была теплой, темной и снежной, а за два года до этого — ясной, крепкой, морозной, — эта была: какой же? Он, Макс, почти не заметил ее, быть может; но и я (теперь, здесь, поворачивая…) — как я ни всматриваюсь, как ни напрягаю я зрение — я вижу лишь отдельные дни, совсем непохожие друг на друга. Она была пасмурной, солнечной, — холодной и теплой одновременно; была пурга, была слякоть; был мороз, была оттепель; — и как ни пытаюсь я составить из всего этого нечто целое, некую зиму — все это кружится, кружится предо мною, наплывает, расплывается, исчезает. Она была никакой, одним словом; — но это вовсе, конечно, не значит, что ее — не было. Она была, без всяких сомнений; и она была долгой, мучительно долгой, эта зима; она тянулась, и длилась, и медлила; — и он, Макс, уже почти не верил, быть может, что она когда-нибудь — кончится.
А впрочем (думаю я…) — сколько же времени она, собственно, длилась? Она (так думаю я теперь…) — странным, и удивительным, и даже, отчасти, пугающим меня образом, совпала — для него, Макса, — с зимою: в самом простом, самом обычном, календарном понимании этого слова. Пошел снег: зима началась; — и потом, когда снег перестал — и растаял: зима, сразу же и во всех смыслах, кончилась; и он, Макс, как будто вдруг вышел и выскочил из нее: во что-то иное, на нее, зиму, совсем, совсем непохожее.
И значит (думаю я теперь…) — речь идет, значит, о каких-нибудь четырех, или, допустим, четырех с половиною месяцах. — Но для него, Макса, эти четыре (с половиною, предположим…) месяца — эта зима, следовательно: для него она длилась не просто долго — мучительно долго; он не знал, разумеется, не знал и не мог знать, как и чем она кончится; конца ей, во всяком случае, не было видно; он, Макс, уже почти не верил в него, быть может: и как если бы (так думаю я теперь…) — как если бы, отдавшись ей, этой зиме, он шел вместе с нею — как если бы она вела его не куда-то вперед (к некоей, скажем, весне…) — но как если бы она уводила его куда-то в сторону, все дальше и дальше: по каким-то (думаю я.) — по каким-то своим, тайным, и зимним, и темным, и запутанным, и опасным, и затерянным, в снегу, в темноте исчезавшим, терявшимся тропам.
Я очень часто виделся с Максом в ту зиму: чаще, быть может, чем когда-либо раньше, когда-либо позже.
И всякий раз, когда я видел его, — всякий раз, когда я приходил к нему, например, — поднимался на лифте, нажимал на кнопку звонка (и всякий раз, очень долго, он, Макс, не открывал мне, я помню, дверь: и в этом ожидании, перед дверью, было что-то томительное, тревожное, странное…) — всякий раз, когда я входил, наконец, к нему в комнату, меня тут же — как некий запах, как некое чувство — охватывало, я помню, нечто, сотканное (казалось мне…) из беды и отчаяния, беспокойства, табачного дыма, бессонницы, тайных усилий.
Я сам не знал, разумеется, что мне со всем этим делать; я приходил к нему, разумеется, из какой-то, совсем иной, своей собственной жизни; я приносил ее, конечно, с собою; она оказывалась — здесь, в его комнате — чем-то решительно неуместным, невозможным, ненужным; раза два или три я попытался, я помню, заговорить с ним о моих собственных обстоятельствах, планах (связанных, к примеру, с театром: на маленькой площади…); он не отвечал мне; смотрел в сторону; мне делалось стыдно; мы оба молчали. Но и заговорить с ним — о нем я тоже, разумеется, не решался; решился — однажды; он посмотрел на меня с упреком; ничего не ответил. И только изредка, как будто не в силах более сдерживаться, он сам вдруг начинал говорить, и говорил в таких случаях очень быстро, шагая по комнате, останавливаясь: у окна, вновь принимаясь ходить: и обращаясь как будто не ко мне, — к кому-то другому, — к себе самому, — ни к кому… и это было самое, пожалуй, мучительное; молчание было легче.
Но я все-таки заходил к нему: раз в неделю, в десять дней, например; и просидев у него, Макса — в табачном дыму, в отчаянии — полчаса, час, вновь — почти с облегчением и в то же время с чувством бессилия, почти унизительным, — вновь, следовательно, возвращался в свою — совсем иную, разумеется, жизнь; к своим собственным планам, обстоятельствам, помыслам.
Мне тоже (так думаю я теперь…) — мне тоже виделось некое заострение; обострение; столкновение: с чем-то; скрещение неких линий; неких, может быть, тем.
Театр, как сказано, некий — нет, теперь уже вполне определенный: на маленькой площади, — театр, следовательно (на маленькой площади…), уже втайне присутствовал в моих, еще бесконечно-далеких от осуществления, но уже, с неведомым прежде упорством, стремившихся к осуществлению планах, надеждах и помыслах. Я не знал по-прежнему, что мне с ним делать; я понимал, по-прежнему, что обойтись мне без него не удастся; я вспоминаю теперь, вновь вспоминаю теперь, какие-то — да, опять какие-то ночи, отчасти бессонные, когда я вдруг видел его, театр, видел зал, видел сцену, фанерные кресла, черные окна, удивительно ясно. И что-то (казалось мне…) — да, что-то, уже неотделимое от моей, уже упорно стремившейся к осуществлению истории, — от ритма ее и замысла, — что-то должно было случиться там, на этой сцене, в этом театре… но я еще сам не знал, опять-таки, что.
Я еще сам не знал что; я видел лишь — удивительно ясно — скрещение неких линий; неких, может быть, тем; и некое заострение; и некое, решительное, взаимодействие.
И я по-прежнему ходил, конечно, в театр, наяву, на маленькой площади (и всякий раз, когда я входил в этот зал, его волшебное сходство с тем, ночным, моим залом поражало меня, я помню; и фанерное кресло скрипело подо мною — протяжным, долгим, пронзительным скрипом; и были — наяву, в самом деле — черные окна, белые стены; и это единственное, всякий раз волнующее мгновение, когда гаснет свет, и все затихает, и нечто уже готово начаться, но еще медлит — неизвестно где, за кулисами; и мне всякий раз казалось, я помню, что — вот сейчас, вот сейчас — кто-то, из моей истории, выйдет, быть может, на сцену…); я ходил, значит, в театр; я посмотрел, еще и еще раз, тот, первый спектакль (тайный прообраз…); посмотрел, в конце концов, и все остальные, более или менее удачные, совсем разные, конечно, спектакли (я уже не находил в них — почти никаких соответствий; отмечу лишь, мимоходом, некую — лишенную, впрочем, тех, так пленявших меня в первом спектакле, темнот, потаенных глубин — построенную, однако, на том же самом, лишь более очевидном, а потому и не столь таинственном, несовпадении актера с ролью — легко и уверенно сыгранную комедию: ту самую комедию, собственно, которой репетицию видел некогда Макс…); я ходил, значит, в театр, еще раз; я виделся, и даже довольно часто виделся, с Фридрихом (почти всякий раз я ждал его, после спектакля, в уже пустом, уже темном зале, один; и мы выходили вместе на улицу, шли ко мне, или ехали, допустим, к нему, или еще, быть может, к кому-то: я тоже, следовательно — но, впрочем, скорее в скобках — я тоже, пускай лишь в скобках, отчасти, жил той случайной, веселой и легкой жизнью, которую он, Макс, осенью, в начале зимы, так резко и так решительно — так мучительно — оборвал…); я виделся, значит, с Фридрихом; я познакомился с Перовым (просто Перовым…); с Лизой (спросившей меня о Максе…), с Марией Львовной (как-то, после спектакля, предложившей мне проводить ее до дому; лиловый и фиолетовый запах ее духов мешался, я помню, с запахом снега, мороза…); — и вдруг отрываясь от всего этого — от всей этой, если угодно, жизни — вновь отдавался своим, пленительно-чистым, ночным и абстрактным видениям, гасил свет, лежал в темноте.