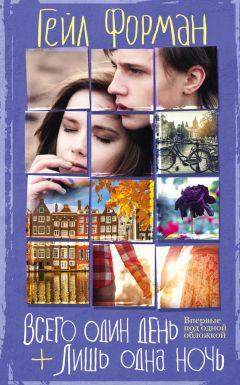Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти
а мы крепнем.
Вот именно!.. Видишь: все сходится.
Кроме одного. -- "того, что случилось с тобой, доченька".
Чего же? -- на секунду приземлил подпрыгивающую ногу.
Кроме того, что, если бы ты употребил свою танцующую
ногу в дело, то давно бы уже стал академиком.
Не успел уйти Горлов, как пришла Анна Львовна. И за ней еще двое, мать и Лина.
-- Вот, пожалуйста... -- порывшись в сумочке, извлекла Лина два измятых полупустых пакетика от лекарств. -- Ты просил, я достала. -- Спасибо... -развернул один, в нем катались две белые, уже зажелтевшие таблетки. -- Что это?
Не знаю.
А сколько надо? -"дать".
Сколько здесь есть.
Отсыпали... Или осталось, -- нехорошо усмехнулся. -- Тебе-то не все ли равно?
"Старые чьи-то". -- Но ведь я должен знать.
А что тебе знать?
Как дать.
Так.
Кто сказал?
Не все ли тебе равно?
Мне -- нет, я не имя прошу, но кто -- врач? Я должен дать,
я... -- "И кому! для чего! чтобы ты, доченька, навсегда..."
Ну, так дай!.. -- и заплакала.
Как я ненавидел ее в эту минуту!
В боксе все, как было вчера. Или утром? Да, сегодня. Кегли нетронутых рожков, блюдца, тарелки, винегрет на одной. Ты лежала, печально уставясь в невысокое серое небо потолка -- единственной щелочкой, полуослепшей. В два и в три годика очень довольна бывала, если доглядишь что-нибудь первая: "31 октября 62. -- Папа, смоли, мотоцикил!.. Вот, вон!.. -- Верно, гуленька ты моя. -- Леля газастая? -- страшно гордилась".
А сейчас: "Смотри, доченька, -- сказала Тамара, -- папа цветов принес. Сейчас мы водичку сменим, старые выбросим, новые поставим". Ты молчала, даже бровями. Зато мама незаметно поманила меня, порылась в тумбочке, вытащила скомканный клочочек салфетки, развернула:
-- Вот тебе, папочка, подарочек... -- на салфетке лежал... коренной зуб. Слитно двурогий, здоровый, без пятнышка, смутно желтевший на белой бумажке, вздрагивающей от голубовато темных крапинок слез. -- Все пальчиком во рту копалась, потом достала, смотрит и спрашивает: "Мама, что это?" При
выкла уже к чудесам. -- Завернула, спрятала на груди и -- бодро: -Сейчас, Лерочка, будем читать! Ну, папочка, ложись, поспи, пока я читаю.
Что ж, теперь уже было и так, что садился я на вторую кровать, подмащивал под бок подушку, дремал. И чего не делал раньше, -- иногда брал с тарелки то виноградину, то кусочек хлеба. В четыре года, осердясь, погрозила однажды мне: "Я тебе сейчас все зубы вытолкну! -- А потом спрашивала: -Папа, а цю у тебя есть и свои и чужие зубы, зелезные?"
И еще сказала Тамара: "Днем к соседу пришел отец, Лерочка услышала, как тот спрашивал про уроки. И меня попросила. Я дала ей блокнот, и она сама стала задачи себе. Все верно. А потом написала. Над ними: не вижу. Полностью. Левым".-- "Значит врет Калинина, что не соображает, не чувствует". -- "Гм!.. -- прищурилась -- Врет. Как тогда, с клизмой".
Утром ждал Зосю. Брел к скамейкам, что на проспекте, и, не видя, сам видел, что спина у меня колесом. Нельзя так перед Зосей. И, когда мимо, шипя, просвистел трамвай, подумал, что надо бы разогнуться, но прошло это так, о ком-то другом.
-- Здравствуй... -- запышливо села, качнувшись вперед, чтобы платье легло без складок. И уж как он там ни вихлялся наш разговор, а вернулся к далекому, прежнему. Оттого и вернулся, что вырвалось: может, взять нам тебя домой и всем троим разом. -- А помнишь, что ты мне говорил?
Это было в публичке, года два лишь назад. Пожаловалась тогда -неожиданно и впервые: "Каждый день, каждое утро просыпаюсь с мыслью: хватит!.. Вот сегодня... Не могу больше жить!" -- "Ты?!" - "Я!.. Я!.."
Не случалось мне сталкиваться доселе с этим -- чтобы так говорили об этом. И подумал: наверно, не так это должно "выглядеть". Ведь смеется, болтает, бегает, роет свою диссертацию. И полна, так полна музыкой жизни.
-- Что же тебя заставляет? --Все, все!.. - Но что -- все? Ты здорова, у тебя работа, мать, отец, сын, квартира, достаток, возлюбленный.
-- Да, да, да, да!.. - Чего же еще? --Не знаю... но не могу, не могу, понимаешь: не мо-гу! -- Но у тебя сын! -- Ну, что сын, сын!.. Вырастет... у него уже своя жизнь... начинается. А!.. тебе не понять, вижу, -усмехнулась. -- Да. Только в одном случае признаю: если нет выхода. Если человек смертельно болен. Или просто иначе нельзя, ну, никак, невозможно. У тебя даже горя-то нет, никакого!.. -- рассердился, что сорит такими словами.
-- Горя... -- все так же покачивалась, грустно кивала чему-то в себе головой, глядела в сторону, тяжко. -- Обязательно горе...
И стояли, чужие, далекие.
-- Тебя еще, видно, не тряхнуло ни разу, поэтому... -- все
же нашел, как себе уяснить. -- Обязательно нужно, чтобы тряхнуло, да?.. -- живо, враждебно вскипела. -- А без этого, просто так?
Да, без этого не вместить было. Да и с этим -- откуда? Если все это умозрительно. И представить не лезло, не всачивалось чужое, скатываясь с булыжно покойного, твердого. Как расстаться с тобой, с Тамарой, с писаниной, с надеждой? И - невежда - не знал тогда и того, что уж было так тонко, так горько подмечено Гаршиным. Об этом рассказывал Короленко: "По поводу самоубийства одной знакомой девушки Гаршин писал, что, по его мнению, все люди, кроме прочих рубрик, которых множество, -- разделяются еще на два разряда: одни обладают хорошим самочувствием, другие -- скверным. "Один живет и наслаждается всякими ощущениями, ест он -- радуется, на небо смотрит -- радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием... Словом, для такого человека самый процесс жизни -- удовольствие, самосознание -- счастье. Вот, как Платоша Каратаев. Так уж он устроен, и я не верю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависит от миросозерцания, а не от устройства... Другие совсем напротив. Когда-нибудь Бернары найдут хвостики самых хвостиков нервов и все это объяснят. Посмотрят под микроскопом и скажут: ну, брат, живи, потому что, если даже тебя каждый день сечь станут, то и тогда ты будешь доволен и будешь чувствовать себя великолепно. А другому скажут: плохо твое дело, никогда ты не будешь доволен, лучше заблаговременно помирай. И такой человек помрет. Так умерла и Надя. Ей тоже сладкое казалось горьким". Сам Гаршин в этом отношении представлял натуру парадоксальную. По всему своему "устройству" он мог и понимать, и откликаться на все радости жизни, но где-то коренился один дефект нервной системы, который, как туча, омрачал настроение угрозой сумасшествия. Повидимому это было, как и у Гоголя, например, наследственным (старший брат Гаршина покончил с собой в юношеском возрасте). Гаршин тоже не смог".
Но Зося весела, деятельна, энергична. Ну и что, он ведь тоже "откликался на все радости". И сама она говорит: "Чем хуже мне, тем я веселее. Внешне".
-- Помнишь? - твердо взглянула она. - Ну, и как ты теперь? Значит, все же бывает и так, что здоров, а не хочешь, не можешь? Видишь, как все бывает.
Я видел. Утрамбованную дорожку. Видел: нет у нас выхода, нет. Лишь один -- исчезнуть нам как-то. Совсем. Всем. Помимо своей воли. Но -- по нашей. Иначе от этого не уйти. Видел, как цветуще смугла Зося, как блескучи горячие карие глаза с зеленоватым прожилком. "Папа, -- говорила в четыре года про обезьяну Примуса: -- она на меня глазами меркает". Как, наэлектризованно потрескивая, вздыбились черно промытые, взъерошенно сильные волосы. А твои посеклись на затылке, истончились, свалялись. И глаза, такие блестящие некогда, один глазик, будто пленкой тускло подернут.
-- Ну, ты помнишь, что ты говорил? -- Забыл. Спасибо, что напомнила. -И подумал: дождалась ты, не ждавши.-- Так ты ему скажешь, Жоржику? -- Да. Ты здесь будешь? Я с факультета заеду.
Вернулся. Нежным, усталым и грустным голосом вела тебя мама с "Двумя капитанами".
Отдохни, давай, я почитаю.
Лерочка не хочет. Все мама, мама, да, доченька?
Покивала, так грустно. Уж привыкли (как же быстро мы все ко всему привыкаем), что без голоса. "2 января 64г. Идут мальчики лет по тринадцати. --Папа, у них мамы нет? -- Есть. -- А зачем им мама?
А тебе нужна? -- Да. -- Им тоже. - А ведь они могут себе сами суп сварить".
Была у тебя, Лерочка, простейшая и вернейшая философия любви:
"20 сентября 63. -- Папа, похоже на нашу маму? -- подняла свое очередное творение. --Да, а кто лучше: эта тетя, -- показал на картинку, -или наша мама? -- Моя. -- Почему? -- Потому что она меня любит".
Вечером я звонил одной женщине, медсестре, которую ты, доченька, некогда знала, очень недолго, но любила. И она тебя тоже. Два дня назад говорил с ней. И вот: "Мы сейчас к вам на машине подъедем. Ждите нас у выхода". Для кого вход, для кого выход. Осторожно, ощупью заглянул с проспекта "Москвич", подкатил. Вышли. Сперва женщина. Следом муж, молча, крепко и хмуро пожал мою руку. Все вложил, отошел, чтобы нам не мешать.
- Я узнала, надо морфий. --Укол? -- Да, но можно и так. Правда, это не так. -- Есть? -- Да. Дома. -- Я могу к вам заехать? -- Пожалуйста. Утром. Завтра. Часов... в половине седьмого. Нет, нет, я рано встаю. -- Помолчала. -- Как Лерочка?