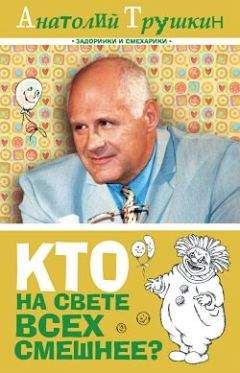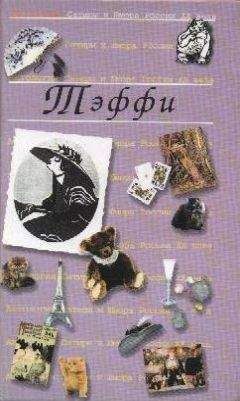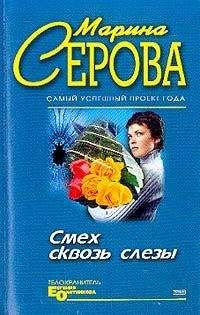Владимир Колыхалов - Кудринская хроника
Шкура лося, широкая, как палатка, лежала на снегу шерстью навыворот и была талой: в таком виде мороз не успел схватить ее. Савушкин разбросил шкуру на санях мездрой кверху, сложил в нее мясо, надрезал шкуру в углах ножом, в прорези продернул капроновый шнур и стянул концы шкуры в центре саней. Так было удобнее везти мясо, тоже еще не застывшее, скользкое. Дорога в ухабах, раскатах, дорога длинная. Хозяин присвистнул, и мерин тронулся с места.
Хрисанф Мефодьевич шел за конем то сбоку розвальней, то позади них, похлестывая Солового приспущенными вожжами. Конь горбил спину, клонил морду к дороге, к передним ногам, потому что и воз был тяжел, да и устал он за день, намучился вытаскивать мешки с мясом по топкому снегу. По бокам и на брюхе настыла у него сукровица, вытекшая из парного лосиного мяса.
Савушкин тоже чертовски устал, дыхание его сбивалось, в ушах шумела приливающая к голове кровь, и вдобавок ко всему очень хотелось есть. И он подгонял Солового, тоже голодного, чтобы тот побыстрее переставлял ноги, тянул воз к зимовью. И уж там тогда хозяин даст ему отдых, накормит и сводит на водопой. До утра конь накопит сил, а потом его опять под седло и по цельному снегу весь день мучить — ехать к Скиту и обратно.
— Но как я сегодня проголодался! — громко говорил Савушкин, чтобы голосом подбодрить себя. — Поджилки трясутся! — И голос его, такой неожиданный в тишине угасающего короткого зимнего дня, подстегивал Солового: мерин мел хвостом и приналегал.
Схваченный голодом, Хрисанф Мефодьевич вспомнил, как в те далекие трудные годы они тут бедствовали, как ели турнепс на поле — животы раздувало, а сытости от этого не прибавлялось. Подростком пошел он работать на мельницу, чтобы «при хлебе быть». Мельница стояла на Чузике, неподалеку от Шерстобитова. Многие окрестные колхозы возили туда зерно на размол. Та мельница тогда чуть не стоила жизни Савушкину. Мололи по поздней осени — с молотьбой запоздали. Мельник послал Хрисанфа ночью закрыть на мельнице ставню, а он сорвался, и его потянуло в русло… На стояке подбородком повис — это и спасло. А так — затянуло бы под колесо, и прощай, белый свет!..
Дорога тянулась длинная, скрипели сани, а он думал о пище, о том, как и что будет варить на ужин. Любил он отварную губу сохатого (какой охотник-таежник откажется от нее), но возиться с губой будет некогда. Губу лося надо палить на огне, мыть, скоблить, долго отмачивать, да и варится она не скоро в соленой воде со специями. Если все это проделать, то получится не просто еда, а дивное лакомство; упругое, жирное, студенистое, ароматное — с нежными хрящиками. Ломоть отварной лосиной губы да краюху черного хлеба с луковицей — и бодрости, силы хватит на целый день. Губа лося и горячая хороша, но холодная — лучше… Еще сладок, нежен язык у сохатого. С говяжьим не сравнишь. А грудинка, когда упреет в котле на плите! А печень сырая — с перцем и солью! Всё это — одно объедение, мечта. Даже те, кто впервые сырую печенку лося попробуют и вначале испытывают некоторую робость, боязнь тошноты, потом говорят: а действительно вкусно, ни с чем не сравнимо, можно язык проглотить… Вот печенку сегодня Савушкин и отведает, как только придет в зимовье, подкрепит ею свои ослабевшие силы, а уж после станет плиту растоплять. А там, через час-полтора, поспеет порубленная на мелкие кусочки грудинка, язык, положенный упревать целиком. Язык он завтра возьмет с собой на дорогу.
Подступивший голод, мысль о конце пути и вкусной еде мало-помалу смирили его, отодвигали куда-то вглубь печаль о погибшей собаке. Сползала горечь с души, таяла постепенно. Да и что проку в том, что он будет страдать, горевать! Этим делу не поможешь. И то надо в соображение принять, о чем говорил когда-то покойный отец: «Перст судьбы указует». Вот и выходит, что указал он нынче Хрисанфу Мефодьевичу, наслал на него новые испытания…
Заплетаясь ногами, пофыркивая, Соловый тянул воз из последних сил. Скрипели полозья, темнела дорога, черным, угрюмым становился залегший по окраине неба лес.
Уже давно они вышли на поле, а казалось, что ему все нет конца. Предстояло еще версты две пути, но какими же долгими казались они Хрисанфу Мефодьевичу. Он то и дело сбивался с колеи в сторону, оступался и тут же увязал по колено в сугробе, в рыхлом, еще не слежавшемся снегу. Натруженные колени гудели и подсекались. В такие минуты, часы со злом думалось о тайге, о том, что она насылает на человека мучения, заставляет его то мокнуть, то мерзнуть, то обливаться потом. И провалилась бы к черту охота с ее муками, тяжестью, огорчениями. Но сколько он ни ругал эту каторгу, таежные дебри, они после звали его вновь и вновь, звали отдохнувшего, утолившего голод: приходило с необоримою силой все прежнее — страсть, влечение к погоне за зверем, желание разобраться в самых замысловатых следах, выследить и вернуться с добычей. Так было с ним тясячи раз. И так будет завтра. Если охота — муки, то муки сладкие…
Знакомый кедр-одиночка, стоявший от зимовья метрах в ста, могуче затемнел на небосклоне сплошным пятном — так густы были ветви его. Соловый пошел веселей, и Савушкин приободрился, перевел вздох. Сколько бодрости вселяет в уставшего путника этот миг — увидеть родное жилье после многих мучений!
— Поживей, поживей двигай мослами-то! Сено с овсом небось близко! — проговорил хозяин, обращаясь к коню. — Стареем с тобой мы, дружок. Прежде-то по двое суток рыскали не жравши, не спавши! Время уже нас не гладит — за космы дерет! Глядишь, что так-то скоро и волос не останется…
Хрисанф Мефодьевич оглянулся в задумчивости по левую руку, по правую. Пусто… А как было бы сейчас привычно ему увидеть подле себя Шарко, его неторопливый бег рядом, его радостно мельтешащий хвост и нежное собачье повизгивание в ответ на слова хозяина. Но, кроме Солового, слов произносить было больше не для кого. Всего-то теперь их тут двое — изъезженный конь да он, стареющий промысловик, давний кудринский житель.
Соловый, едва дотянувший воз к зимовью, с ходу уткнулся в припорошенную копну сена, выхватил клок и начал жевать, позвякивая удилами. Хрисанф Мефодьевич его разнуздал, и мерин не выронил при этом изо рта сена, лишь обронил малый клочок перетертых пополам сенинок. Бока лошади сильно опали, подпруга ослабла, как и ремень ослаб на брюках его хозяина. Конь поедал сено, а Савушкин убирал все еще не застывшее мясо, стаскивал его в тракторную тележку. Покрякивая, он тужился, выхватывая тяжелые части туши, волоча их по снегу, потом подкидывал рывком на согнутое колено, а с колена, с немалым усилием, забрасывал на тележку, которая по высоте приходилась ему вровень с плечами. Когда все это он сделал и накрыл мясо плотно брезентом, был снова с намокшим лбом, слипшимися волосами под шапкой, одышливо глотал воздух и громко сморкался в горсть, по-мужицки. Набрав пригоршни снега, он старательно отшаркивал руки, тер их до тех пор, пока снег не растапливался в ладонях и не стекал брызгами под ноги. Отсыпав в кормушку овса из мешка и рассупонив мерина, снял с него мокрый, горячий хомут и вывел Солового из оглобель. Стреноживать лошадь было не к чему, а привязать следовало. Проделав все нужное с лошадью, он оставил ее выстаиваться.
— Хрумкай, — сказал вполголоса. — Через время свожу к проруби попоить.
И опять пустота окружающего пространства больно отозвалась в душе: ему не хватало собаки, ее терпеливого ожидания у двери зимовья, когда вынесут каши или мясную кость, с которой можно будет не расставаться всю ночь. Под навесом, на сене, с лакомой костью, собака чутко дремала бы, ловя все посторонние шорохи, близкие и далекие звуки, запахи, и подавала бы в нужный час голос, извещая о приближении человека ли, зверя. Но такой привычной картины для охотника Савушкина в эту ночь не будет. Тишина. Лишь слышно собственное дыхание, характерный звук конских челюстей при пережевывании овса да скрип снега под подошвами бахил…
Ужин поспел не скоро, но это был ужин, о котором всегда мечтает охотник в голодный день. Грудинка напрела отменная, бульон с луком, перцем, картошкой был густ, ароматен, и отхлебывать его из большой металлической кружки было чистым наслаждением. И опять Савушкин потел, то и дело утираясь затертым, давно не стиранным полотенцем. Видала бы Марья, чем он тут утирается — ахнула бы! Проезжал как-то мимо в Тигровку зять Михаил, а с ним Галина — в первый раз посмотреть решила, как ее батька тут зимовничает. Удивилась: и низко, и дымно, и лед под порогом. Хваталась за голову, говорила, что ни за что бы тут жить не смогла… Когда Хрисанф Мефодьевич привозит с охоты свое белье, то Марья молча перебирает его на две кучки: одну можно простирать и в стиральной машине, другую надо долго кипятить в баке с содой и стиральным порошком. Что поделаешь, такая она у охотника-промысловика жизнь: спишь как попало и где придется, и отмыться как следует негде, и пот тебя бьет, и смола прилипает к одежде. Жизнь походная, бесприютная…