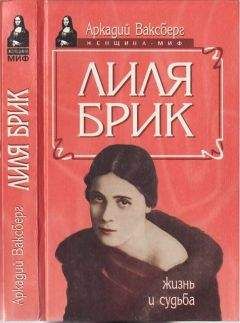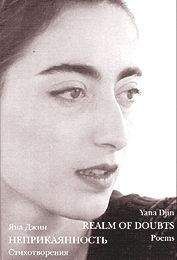Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 3 2005)
“Ты что-то добиваешь (наш сентябрь)”, — вырвалось против воли у Цветаевой. Природа, погода, свобода, каникулярная беспечность, ходьба без конца и без краю и даже нелюбимое море, к которому она подобрела, узрев в нем Океан, с одной стороны, а с другой, напротив, обнаружив во время океанских приливов уютные озерца в дюнах, где и купалась упоенно (Марина Ивановна в конце концов призналась Гронскому, что море не любит плохой пловец в ней), — все должно было сойтись вместе в том пространстве, где корни любви укрепились бы настолько, что никакая “жизнь, как она есть”, их не вырвала бы. Взамен сентябрь становится месяцем такой переписки, какая больше всего дала оснований Цветаевой назвать впоследствии эти Lettres d’amour “огненными”. А что такое огнь любви в цветаевском эросе? Сближение по всем возможным степеням свободы для человека. Любовники, друзья, мать и сын, учитель и ученик (тут-то она и дает нелицеприятный разбор его стихотворчества: “Слова в твоих стихах большей частью заместимы, значит — не те. Фразы — реже. Твоя стихотворная единица, пока, фраза, а не слово (NB! моя — слог). Тебе многое хочется, кое-что нужно и ничего еще не необходимо сказать”) — по-всякому родные они теперь, кровосмесительно теперь каждое письмо. “Сыночек родной”, — обращается она к нему и утешает, что разминовение, может, и к лучшему, так как иначе в одну из ночей могло бы “начаться <…> дитя дитяти”, а это означало бы крушение нескольких жизней. В ответ недавно справивший свое девятнадцатилетие Николай шутит столь же рискованно, сколько и достойно ученика, творчески переработавшего цветаевские уроки безмерности (его mot привести не рискну). И как всегда у нее работает любовь при свете совести: “Хочешь правду? <…> Я так же, почти так же, рвусь к ней, как к тебе. М. б. — схлынет”, — рвется она к… матери Гронского, ранее почти незнакомой, но теперь в его письмах узнаваемой как существо родной породы и столь близкой ей женской судьбы.
Быть учителем, другом, любовницей, матерью для возлюбленного — быть всем — для Цветаевой это норма, но каково ему было вместить в себя цветаевскую норму? Ответ читайте на его известной фотографии 1930-го (не той 1928-го, что на обложке переписки) — через два года их знакомства. Есть такие лица — кажется, овеяны нездешними ветрами, такое лицо у Гронского в 21 год. (Надо, правда, учесть и ветра, овевавшие его на опасных горных восхождениях тех лет.) Если Цветаева когда и “выдумывала людей”, то только не в случае Гронского. Выдумала она его примерно настолько, насколько взрастила в нем своего духовного сына, — это станет ясно после его гибели.
Безмерность переписки не смяла, как можно было бы опасаться, их встречу по возвращении Цветаевой в Париж: “Как мне хорошо с Вами, легко с Вами, просто с Вами, чисто с Вами — как Вы всегда делаете чтбо нужно, кбак нужно. Еще одно, чем бесконечно восхищаюсь: Вы не задавлены полом (для людей — всё, если не ничто ), Вы в него ныряете. Так Антей касался земли”, — писала она ему по горячим следам их первых свиданий.
“Любовная любовь” Гронского преображается в любовь того единственного рода, который Цветаева чтит: “Тем, что для Вас любовь не чувство, а среда (воздух, почва, нечто в чем и из чего происходит) Вы <…> выводите ее из тупика самости, из смертных — в бессмертные!” Любовь, конечно, была еще и сильным чувством юного сердца Гронского, и оно ощутимо в письмах, его не могло не быть к “первой”. “Он любил меня первую, а я его — последним”27, а то, что эта “первая” — Марина Ивановна Цветаева, не могло не вывести его чувство из “тупика самости ”.
Этот тупик давно уже был ей не по пути, уже в 1921 году было ею пережито то, что не стыдно посчитать за онтологический итог всей жизни: “Последняя стена между Миром и мной — прошиблена <…> меня уже нет! — Я ЕСМЬ”28. Такое познание себя в мире необратимо, и та сильная любовь, которую она пережила в 1923-м к Константину Родзевичу, “тупика самости ” избежала (письма Цветаевой к Родзевичу, не говоря о ее поэмах, тому свидетели). Но остается вопрос о земле . Теперь, когда возобновились свидания поэтов пешего хода, касалась ли и она, подлинный “небожитель любви”, земли, как Антей?
Единственный ответ переписки — внезапный ее слом.
Вот чем потенциально силен эпистолярный жанр — механизмом драматургии: нет рассказчика, подготавливающего читателя к новостям. Как гром среди ясного неба, переписка любовников меняется на чисто приятельскую, огня — на… не на лед, а на комнатную температуру — тут только театр абсурда мог бы конкурировать с почтовой драматургией. О “бессмертной” любви написано 17 октября 1928-го, затем отсутствие писем (не считая коротенькой деловой записки Цветаевой) до нового года. Ничего страшного, напротив: частые встречи, не до писем, предполагает читатель, но вот Марина Ивановна поздравляет Николая Павловича с Новым, 1929-м годом — и это уже новая почтовая реальность. Начинаешь ощупывать книгу, всматриваться в корешок: не выпала ли страница, не попал ли тебе бракованный экземпляр. Куда подевались те два “Колумба” любви?
Ищем ответа в дневниковых записях Цветаевой. “Кто-то взял у нас и осень (ни разу не были в мёдонском лесу и только раз — вчера — в парке). А что зимой будем делать?”29 Недаром Цветаева мечтала о “невозвратимом сентябре”: знала наперед, что возьмут у них и октябрь с ноябрем в медонском лесу. Знала, кто возьмет, о чем предупреждала Гронского в сентябре. На что получила умилившее ее предложение: “Милая Марина, а разве Тебе нельзя помогать мыть посуду и подметать комнаты?” За что благодарила его по-своему, по-ихнему: “Нет, дружочек, мы с тобой будем мести — леса, с ветром, октябрьским метельщиком”. Но — это утешение, мечта, в которую сама она теперь мало верила. Ходить вместе по медонскому лесу весной 1928-го получилось у них по одной простой причине: у Эфронов нашла приют родственница Андреевых, за то помогая по хозяйству и присматривая за трехлетним Муром, а осенью она ушла. Просто. С другой стороны, не очень: причины и следствия в любви порой меняются местами. Увяла ли любовь, потому что они перестали ходить по медонскому лесу? или ходить перестали, так как “что-то кончилось”? Только раз в письмах последующих лет договариваются они: “пойдем ходить”. Нередко при этом планируют вместе идти на литературный вечер, в гости и проч. — это, однако, для них совсем другое совместное времяпрепровождение — не “на воле, на равных правах с деревьями”.
“Потом началось — неизбежное при моей несвободе — расхождение жизней ”30 — Цветаева, объясняя конфиденту Анне Тесковой затухание “огненной” любви, немногословие компенсирует подчеркиванием последнего слова. Хороша жизнь или нет, “душа питается жизнью”, вынуждена была признать Цветаева в письме к Пастернаку на пороге 1930-го; у них же, добавляла она, “душа питается душой, саможорство”31. Но с Гронским, судя по их переписке 1929 —1930 годов, Цветаева виделась часто. Подавляющее большинство этих примерно шестидесяти уже не Lettres d’amour — деловые записки Цветаевой, неизменно приветливые и прямолинейные. Чаще всего это бытовые просьбы, но во время летних разъездов записки переходят в письма, то есть обретают голос. Голос дружбы. Редкие теперь письма Гронского столь же теплы, сколь независимы по тону. (Он не дает спуску Марине Ивановне, когда считает ее неправой. В забавной их перебранке по поводу знаменитой мейерхольдовской постановки “Ревизора” победа остается за ним: он видел и судит, осуждает; она защищает не видя.) Если нет ни малейшего намека на пробежавшую между ними кошку, то нет и следа той “кошки”, “сквозь шерсть и блохи” которой Цветаева прочитывала “всё”, читай: любовь.
Над этими эпистолярными равнинами возвышаются вдохновенные письма с гор Гронского, где он предстанет поэтом гор раньше, чем Цветаева прочтет его поэму “Белладонна” и напишет эссе “Поэт-альпинист” после его гибели в ноябре 1934-го. “Одержимый демоном ходьбы, я предпринял труднейшее восхождение. <…> Поэма моя почти кончена <…> Молодо, но уже не юно ” — весть о “Белладонне” пришла к ней еще летом 1929-го. Но почему же он так и не предъявил ей свой tour de force в стихотворчестве при том, что год назад слал и слал в письмах на ее суд свое “юношеское заикание” (так Цветаева квалифицировала те стихи в “Поэте-альпинисте”)?32 Объяснить это — было бы объяснить, почему завяла их любовь. Если Lettres d’amour вдохновляют постороннего читателя на построение гипотез о причинах зарождения любви, то на вопрос о причинах ее смерти отвечает гробовое ее молчание в последующих письмах.