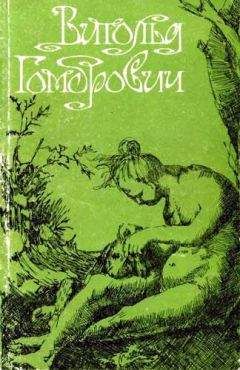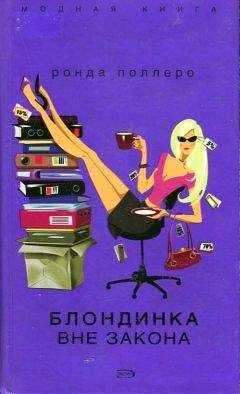Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника.
Исключительно ценно, считаю я, что идея не существует во всей своей полноте, если ее отрывать от человека. Нет других идей, кроме воплощенных. Нет слова, которое не было бы телом.
* * *Да! Быть острым, разумным, зрелым, быть «художником», «мыслителем», «стилистом» только до определенной степени и не быть никогда слишком и именно это «не слишком» превращать в силу, равную всем очень, очень, очень интенсивным силам. Перед лицом гигантских явлений сохранять собственную, человеческую меру. Быть в культуре всего лишь селянином, всего лишь поляком, и даже селянином и поляком быть не чересчур. Быть свободным, но даже и в свободе не терять чувства меры.
В этом состоит вся трудность.
Ибо, если бы я вошел в культуру как чистый варвар, абсолютный анархист, совершенный примитив или идеальный селянин, или классический поляк, вы сразу же зааплодировали бы. Вы бы признали, что я неплохой производитель примитива в чистом виде.
Но тогда бы я был точно таким же производителем, как и все они — те, для кого продукт становится важнее их самих. Все, что в плане стиля чисто, — это подделка.
Настоящий бой в культуре (о котором так мало слышно), как мне кажется, идет не между враждебными истинами, или между различными стилями жизни. Если кальвинист противопоставляет свое мировоззрение католику, то это — два мировоззрения. Не самой важной представляется и другая антиномия: культура — дикость, знание — незнание, ясность — темнота, конечно, можно бы сказать, что все это — явления, взаимно дополняющие друг друга Но вот самый важный, наиболее драматический и болезненный спор, это тот, который ведут в нас два основных стремления: одно, жаждущее формы, вида, дефиниции, и второе — защищающееся от вида, не желающее формы. Человечество так устроено, что постоянно должно определять себя и постоянно уклоняться от собственных дефиниций. Действительность не является чем-то таким, что можно без остатка заключить в форму. Форма не совпадает с сущностью жизни. Но любая мысль, которая хотела бы определить эту недостаточность форм, тоже становится формой и тем самым лишь подтверждает наше стремление к форме.
А потому вся эта наша диалектика — философская, этическая — происходит на фоне беспредельности, имя которой — недоформа, которая ни темнота, ни свет, а, собственно говоря, — мешанина всего, фермент, беспорядок, нечистота и случайность. Противостоит Сартру не священник, а молочник, аптекарь, ребенок аптекаря и жена столяра, граждане опосредствующий сферы, сферы недооформленности и недооцененности, которая всегда — нечто непредвиденное, сюрприз. Впрочем, Сартр и в себе самом найдет себе противника из этой же сферы, которого можно будет назвать «недо-Сартром». А их правота (правда, истина) состоит в том, что ни одна мысль, ни одна форма вообще не сможет объять бытия и чем более всеобъемлющая эта мысль или форма, тем более она живая.
Не переоцениваю ли я себя? Честное слово, я предпочел бы передать кому-нибудь другому неблагодарную и рискованную роль комментатора собственных сомнительных достижений, но в том-то и дело, что в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь, никто за меня этого не сделает. Даже мой неоцененный сторонник Еленьский. Утверждаю, что на собственном дворе я много нашел чтобы этот конфликт с формой стал ощутимым.
В моих произведениях я показал человека, распятого на прокрустовом ложе формы, нашел собственный язык для выявления его голода на форму и его антипатии к форме, с помощью специфической перспективы я попытался вытащить на свет божий ту дистанцию, которая существует между ним и его формой. И показал, думаю, не скучно, а, точнее говоря, забавно, то есть по-человечески, живо, как между нами возникает форма, как она нас создает. Я выявил ту сферу «межличностного», которая оказывается для людей решающей, и придал ей черты созидательной силы. Я приблизился в искусстве, возможно, больше, чем остальные авторы к определенному видению человека — человека, истинной стихией которого является не природа, а люди, человека, не только помещенного в людях, но и ими нагруженного, воодушевленного.
Я старался показать, что последней инстанцией для человека является человек, а не какая-либо абсолютная ценность, и я пытался достичь этого самого трудного царства влюбленной в себя незрелости, где создается наша неофициальная и даже нелегальная мифология. Я подчеркнул мощь репрессивных сил, скрытых в человечестве, и поэзию насилия, поднимаемого низшим против высшего.
А одновременно я связал этот ареал переживаний с моей основой — с Польшей — и позволил себе нашептывать польской интеллигенции, что истинная ее задача состоит не в соревновании с Западом в созидании формы, а в обнажении самого отношения человека к форме и, следовательно, к культуре. Что в этом деле будем сильнее, более суверенны и последовательны.
И, видимо, я сумел показать на своем собственном примере, что осознание своего собственного «недо» — недообразованности, недоразвитости, недозрелости — не только не ослабляет, но делает сильнее; что оно может даже стать зачатком жизненности и развития — подобно тому как на почве искусства этот (я бы сказал, апатичный, легкомысленный) подход к форме может обеспечить обновление и расширение набора средств художественного выражения; пропагандируя везде, где только возможно, тот принцип, что человек выше своих произведений, я несу свободу, столь нужную сегодня нашей исковерканой душе.
Неужели в самом деле, вы, знатоки, так близоруки, что вам все надо подсовывать под нос? Не в состоянии ничего понять? Когда я бываю среди этих ученых, я могу поклясться, что я нахожусь среди птиц. Перестаньте меня клевать. Перестаньте меня щипать. Перестаньте гакать и крякать! Перестаньте с индюшачьей спесью брюзжать, что эта мысль уже известна, а то — уже было сказано. Я не подписывал контракта на изготовление никем не слышанных идей. Лишь некоторые идеи, из тех, что носятся в воздухе, которым мы все дышим, сплелись во мне в определенное и неповторимое гомбровичское чувство — и это чувство — я.
* * *С глубочайшим смирением я, червь, признаюсь, что вчера во сне ко мне явился Дух и вручил мне Программу, состоящую из пяти пунктов:
1. Вернуть польской литературе — безнадежно плоской и раскисшей, слабенькой и боязливой — веру в себя, основательность и гордость, размах и полет.
2. Опереть ее сильно на «я», сделать из «я» ее суверенность и силу, ввести, наконец, в польский язык это «я»... но подчеркнуть ее зависимость от мира...
3. Перевести ее на самые современные пути и не потихоньку, а скачком, вот так, просто из прошлого в будущее (поскольку les extrêmes se touchent). Ввести ее в самую трудную проблематику, в самые болезненные переломные хитросплетения... но научить ее легкости и пренебрежительности, и тому, как соблюдать дистанцию.
Научить презирать идею и культ личности.
4. Изменить ее отношение к форме.
5. Европеизировать — но вместе с тем использовать все возможности, чтобы противопоставить ее Европе.
А внизу виднелась ироническая надпись: «не для пса колбаса!»
* * *В Польше рухнула башня слишком аристократической культуры, и там все, кроме фабричных труб, в нынешнем и последующем поколениях станет карликовым — так что же, из-за этого и нам, польской интеллигенции в изгнании, тоже поджиматься? Вот странно, но истинно: хоть и висим в пустоте, хоть и представляем вымирающий класс, «надстройку», лишенную «базиса», хоть все меньше и меньше будет людей, способных нас понять, мы и в дальнейшем обязаны мыслить не упрощенно и примитивно, а в соответствии с нашим уровнем — именно так, как будто в нашем положении ничего не изменилось. Мы обязаны делать это просто потому, что это в нас естественно и что никто не должен быть глупее, чем он есть на самом деле. Мы должны осуществиться до конца, высказаться от «а» до «я», поскольку право существовать имеют лишь те явления, которые способны к абсолютной жизни.
* * *Я хорошо знаю, какой я хотел бы видеть польскую культуру в будущем. Вот в чем, однако, вопрос: а не распространяю ли я на народ ту программу, которая является лишь моей личной потребностью? Но вот эта программа: слабость сегодняшнего поляка состоит в том, что он слишком однозначен и слишком односторонен, а потому и все усилия должны быть направлены на обогащение его вторым полюсом — дополнение его другим поляком, совершенно — окончательно — отличным.
Я уже писал в другом месте об этом нашем alter ego, которое изо всех сил требует права голоса. История заставляет нас взращивать в себе лишь определенные сторон нашей натуры и мы чрезмерны в том, что мы есть — мы чрезмерно, крайне стилизованы. И это тем более, что чувствуя наличие в себе других возможностей, мы жаждем их насильно уничтожить. Как, например, представляется вопрос нашей мужественности? Поляку (в отличие от представителей латинской расы) недостаточно, что он лишь в определенной степени мужчина, он хочет быть мужчиной больше, чем он есть на самом деле, можно сказать — он навязывает себе мужчину, является искоренителем собственной женственности. И если учесть, что история всегда заставляла нас вести военный и воинственный образ жизни, то это психическое насилие становится понятным. Таким образом, боязнь женственности приводит к тому, что наши решения становятся жесткими и оборачиваются против нас, в нас обозначается неумелость тех, кто опасается, что не окажется на высоте своего положения, мы слишком «хотим быть» такими, а не другими, вследствие чего мы слишком мало «являемся».