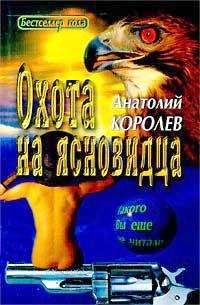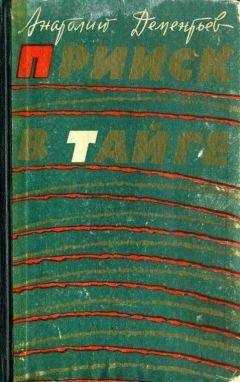Анатолий Королев - Эрон
9. DIE ZAUBEZFLOTE[1]
Младая Эос — перстами из дымного пурпура — отыскала в тенистой ракитной рощице спящего и погрузила темно-вишневые алые стрелы в закрытые веки: соня, вставай. Адам открыл глаза — солнце моргало в сполохе листьев, утренний день был свеж и беззвучен. Девочка уже проснулась. Она сидела, прислонившись спиной к стволу, раскинув кукольные аккуратные ножки. Взгляд ее игрушечных глаз был строг и нетерпелив. Она продолжала молчать, и Адам в очередной раз изумился безмятежной свежести лилейного личика и тому, что ее стрекозиное платьице до сих пор не измято. Все повторилось, как вчера: она отказалась от апельсина, а когда он вновь усадил на плечи голубое облачко, повелительным пальчиком указала на расщелину света. Но по всему чувствовалось, что путешествие подходит к концу. Их избегали бабочки, они уже не красовались на фарфоровых ручках плоским краснеющим пеплом. Птицы так же брызгали в стороны, чаще молча, реже — с оборванной трелью, и только стреляли из-за лесных углов горячим черничным глазом. Вечность мелела с каждым шагом к берегу времени. -
От речушки дорога шла вверх, и, когда оборвался сначала ракитник, затем травяной луг, в синьке васильков и в белой поземке цветущей кашки, с гребня холма открылся вид на окрестности: необъятная даль с иссякшим призраком горы Аминь, перелески, поле, движение облачной сени, близкое шоссе и уродливый поселок вдоль бетонной ленты, а дальше — снова чистописание природы: холмы, новые перелески, озерца и горизонт, отороченный еле заметной, мелко синеющей рябью лесов. А выше и дальше — только небо в летнем накале солнечных плесов. Перед Адамом расстилался вид на финал его теперешней жизни. Звуки были негромки и почти не слышны, а цвет повсюду отливал зеленью и всплесками ртути. Вечность дала заметную течь, снежные кручи альпийской Мольбы сливались с пеною кучевых облаков, и время с ненасытными всхлипами все сильней и звучнее устремлялось в глубокую брешь Адамова сердца. Последний раз серпокрылки вязко реяли над протянутой детскою ручкой. Мир игры был так безупречен. Почему же, думал Адам, приходится жить так всерьез?
Пора!
Пение ручья сострадает тем, что звучит без единого слова. Пение иволги в дубняке — тем, что звучит без малейшего запаха, пение рыбок в воде — тем, что звучит, никак не окрашивая. Все прочее просто пошло — мелькнуло перед Адамом: с девочкой на плечах он вышел к гаденькому поселку; здесь — на развилке шоссе милицейский кордон со вчерашнего вечера собирал всех тех, кто самостоятельно брел на дорогу к Москве от места крушения поезда. Таких здесь набралось не меньше десятка, кое-кто был легко ранен и нуждался в медицинской помощи. Адам не мог ответить ничего о том, кто эта девочка в газовом платьице, но неожиданно она сама четко и ясно, голоском детсадовской отличницы ответила на асе вопросы капитана милиции. Их повернули на местную почту, где был развернут пункт неотложной помощи и где молчунья самостоятельно набрала твердым пальчиком московский номер и строго поговорила с потрясенной бабушкой: «бабуля, не хнычь — у меня ни единой царапины. Позвони в Ленинград маме. Передаю трубку…» Она отдала трубку Адаму, который объяснил — голос был уже мужской — где они. Девочка почему-то избегала его глаз и ее внезапное отчуждение было так неприятно, что Адам не стал дожидаться, пока за капризной куклой приедут, и, оставив ее на попечение врачей, пошел ловить попутную машину до Москвы. Умри, Хильдегарда!
Ни одна из легковых машин не останавливалась, прошло не меньше получаса, прежде чем к нему подрулил грузовичок с надстроенными бортами, откуда на Адама обреченно смотрела привязанная корова. Пьяненький шофер… с лиловым лишаем в пол-лица… даже сам распахнул дверцу: садись, братан! Только водка делает нашего мужика человеком. «Я вить тебя признал, шарамыгу».
Адам тоже узнал мужика из проклятой богом деревни, это он кидал глупой курицей в явление иконы…
— Везу живность на убой! — весело объяснил шофер. — Слышишь, притихла сволочь. Чуют, собаки, под нож катим.
Грузовичок катил прямиком на мясокомбинат под Новыми Химками. «Москвичам на каклеты, чтоб им пусто было, скоромникам! чтоб подохли асе от нашего мяса! сгнили, заразы! подавитесь нашим мясом, фашисты!» Адам отмалчивался: тебя ж съела свинья, мудила. Ты не человек, ты свиное говно с глазами и только… В то же время дядя Лишай — единственный, кто пожалел и притормозил машину.
Они не успели проехать и десяти минут, как шофер снова давнул на тормоз — на обочине голосовала женщина с забинтованной головой. Поднимая правую руку, она левой — старалась прикрыть разорванное на груди платье. «Кто тя так разукрасил, милая?»
Она была, как н Адам, с поезда, потерпевшего вчера крушение. Голосовала больше двух часов, но рваное платье, голова в бинте с пятнами крови… в общем, машины летели мимо. Втроем в кабине «Уаза» поместиться было невозможно, и Адам перелез в кузов. Усевшись в углу на промасленной телогрейке, спиной к кабине, и держась рукой за вихляющий борт, человек оказался вдруг один на один с молчанием обреченных животных. Кроме коровы здесь были еще четыре стреноженные овцы и груда ушастых кроликов в клетке, среди которых только один был обращен мордочкой э его сторону. Он тоже узнал их — робких овец из тех, что стояли с ним рядом на заливном лугу видений: корову, павшую на согнутые передние нота у плетня…
— Эй, держи! — из кабины показалась рука с водочным пузырем, горлышко было заткнуто свинченной бумажкой. Адам подхватил бутылку. — И закусь! — руки снова встретились в воздухе, и в Адамовой ладони оказалась пара кусков черного хлеба со шматком' сала. Взгляд шести живых существ был так тягостен, почти невыносим, что человек Адам глотнул из бутылки не без тайного расчета — он хотел заглушить ранимость… и поперхнулся. На донышке оказался чуть ли не чистый спирт. Только тут корова моргнула первый раз. На глазах человека выступили слезы. Только тут между ним и несчастными наметилось первое взаимопонимание. Овцы тихо вздохнули и позволили себе переступить полусвязанными ножками, на кончиках которых Адам с умилением разглядел уютные черные раздвоенные копытца. Он, конечно, знал — теоретически, — что овцы на ногах имеют копытца, но никогда не видел раньше их так близко и не думал о них с приступом обожания: черные, сплошь костяные, они были удивительно грациозны, даже как бы балеринны, а их точная острая твердость, этот цокающий перестук по доскам, неожиданно приоткрыл Адаму явность заботливой защиты, которой некто — Бог? природа? — наделил живое от насилия. Копытца защищали овечьи ножки от камней на дороге. Белая густая шерсть — от зимнего холода, легкая плотная кость черепа заслоняла от бед мягкий нежный мозг, эту грядку скудного рассудка, откуда вырастали два левкоя, чтобы вдруг распахнуть там, на горизонте свободы, две цветочные чашечки, полные влаги и неяркого чернеющего смысла. Одна из овец сделала осторожный полушаг к человеку и, подняв угольный черный влажный нос, не без страха втянула в узкие ноздри запах пота и спирта. И, пьянеющий от сопричастности к робости столь малой и нищей духом жизни, Адам расценил это вдыхание — как моление об имени. Напружинив чернильные чуткие ушки, овцы кротко ожидали и чаяли от Адама взывания. А вот кролик вдруг опустил глаза, он давно покорился участи, и уже ничего не ждал, только подрагивание ушей выдавало подавленный плач. Адам пытался поддержать его угнетенный дух хотя бы подробной пристальностью разглядывания, господи, кролик был совершенным воплощением любовного вырастания: глаза коричневого камня в розоватых пленочках были с дивной тщательностью оторочены гибкими черными ресничками, мокренький нос был также — с милотой умиления — затенен длиннющими усами, растущими из мягких щечек. Всей тяжестью пушистой рыжеватой груди кролик застенчиво опустился на длинные лапы с узкими коготками. Он явно стеснялся жить и был озабочен своим присутствием в мире, угнетен хлопотами, которые причинил своей страстью к прыжкам, и безропотно принимал ограничения клетки, как несомненную справедливость: я слишком мал, слишком пушист и прыгуч, говорил его стеснительный вид, и уши выдавали страх хоть чем-то обеспокоить. Адам отмечал, что резко и глубоко опьянел, что его внезапная чувствительность взвинчена, и все же… все же от понурого облика кролика у него перехватило горло. С каким дружным пылом прижималась пушинка к пушинке на рыжей грудке! с какой самоотдачей лапы прилегали друг к другу, и это совершенство прилегания и лада приговорили к ножу? чувствуя пристальный взгляд, кролик еще больше потупился, он, конечно, тоже, как овцы, хотел называться, но никогда б не осмелился не то что быть, а даже просто казаться. Адам лихорадочно перебирал имена, пока не остановился на альфе для четырех овец и омеге для забитого кролика. Совершенство их поз, телосложений, ушей, глаз, ресниц, глубина живого дыхания, от края ноздрей до глубины тайны — все взывало к защите. Пытаясь представить их как людей, Адам тут же понял, что перед ним совсем еще дети: пушистая черноносая мокроглазая детвора, неразумная мелюзга молчания, самые малые из малых сих мира.