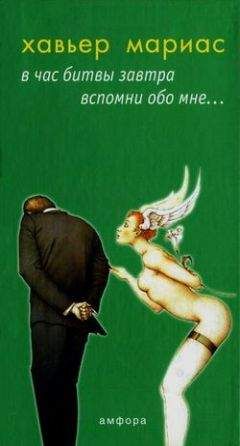Берта Исла - Мариас Хавьер
Томас протянул руки, прося у меня Элису, я передала ему дочку, и он прижал ее к своему плечу, легонько похлопывая по спинке и не очень умело укачивая. Она перестала всхлипывать и только кряхтела, а это означало, что она вот-вот уснет. Томас воспользовался моментом, чтобы ответить мне, но снова по-английски, хотя на сей раз выговор его был совершенно иным: так говорят необразованные люди, у которых почти все гласные похожи на “о”, к примеру, вместо like или mind получается loik и moind. А я опять понимала его с трудом. Теперь голос Томаса звучал твердо, как у молодого человека, а не как у дряхлого старика.
– Скорее Чарли Грейпвин, – сказал он.
Я не знала, кто это такой, и решила, что речь идет о другом актере второго плана. Наверное, им в их тренировочных лагерях показывают как новые, так и старые фильмы, чтобы они усваивали разную манеру речи, разные акценты и говоры. А также дают слушать пленки с записями на разных языках, предположила я.
– Если тот голос сводит тебя с ума, может, этот понравится больше.
Но и этот тоже тревожил и раздражал меня, хотя нервировал и пугал не столько голос Томаса, сколько его вид, словно в дом ко мне один за другим проскальзывали незнакомые люди, вселялись в Томаса или подменяли его собой: если бы такое случилось в прежние времена, пришлось бы призывать священника, чтобы изгнать из него бесов. Теперь его преображения стали настолько безупречными, что вызывали страх, а то и ужас: он мог выдать себя за кого угодно. Томаса хорошо натренировали, и за эти годы он как следует отшлифовал свой талант, то есть превратился в актера-хамелеона или профессионального имитатора – не хуже тех, что выступают по радио и заставляют слушателей поверить, будто к ним обращаются председатель правительства, король или папа римский. Но эти словесные перевоплощения устраивались уже не ради шутки и развлечения, как раньше; теперь дело шло всерьез, и его серьезность выглядела зловещей, обман был намеренным, как в случае с подделанной картиной, которую выставляют и продают, выдавая за подлинник, или как в сюжете классической комедии, когда коварный соблазнитель пользуется безлунной ночью, чтобы проскользнуть в постель к женщине и прикинуться ее возлюбленным. Человек, способный на подобные фокусы, может обмануть кого угодно и очень опасен, подумала я, меня огорчила мысль о том, на что мой муж, моя многолетняя любовь, пускает свои таланты, находясь вдали от нас. Поэтому я хотела непременно договорить начатое. Элисе, как казалось, не мешал хорошо поставленный и звонкий голос отца, она заснула у него на руках, вдыхая его запах; наверное, любой голос успокаивает детей, абсолютно любой, ведь для них главное – знать, что они не одни и рядом есть кто-то, кто их оберегает.
– А теперь скажи мне твое мнение. Один из солдат в той сцене – Балтес, если я правильно помню, или нет, это был Уильямс – ввязывается в спор с королем, который завернулся в плащ, чтобы его не узнали, во всяком случае, лица его почти не видно, к тому же еще не начало светать. Уильямс говорит что-то дерзкое про своего монарха, а король защищает его (то есть себя самого, но говорит вроде как от лица другого человека), оба горячатся и дают обещание докончить спор после боя, если только останутся в живых. Они обмениваются перчатками, чтобы потом узнать друг друга по ним: у одного перчатка будет на шлеме, у другого – на шапке, пока они снова не встретятся, если, конечно, встретятся. Что и случается несколько сцен спустя. Генрих Пятый, естественно, остался в живых и видит проходящего мимо Уильямса, пока слушает отчет о погибших французах и потерях в английском войске. Король, как ему и положено, стоит в окружении свиты и обращается к солдату, заметив свою перчатку у того на шапке. Он интересуется, почему тот носит ее таким образом, и Уильямс рассказывает о случившейся накануне ссоре с незнакомым англичанином или валлийцем. “А если тот окажется знатным дворянином?” – ехидно спрашивает король. На что Уильямс отвечает с одобрения присутствующего рядом капитана, что, как бы высоко ни стоял тот, с кем они отложили свой поединок, он, Уильямс, должен выполнить клятву и дать обещанную пощечину, коль скоро уцелел в бою и не был ранен. Затем там начинаются всякие рассуждения, не имеющие отношения к делу, но наконец король показывает солдату пару к той перчатке, которую Уильямс носит на шапке, получив у костра от незнакомца. Генрих начинает упрекать солдата за дерзость, за то, что он нагрубил своему королю: “Дай мне свою перчатку, солдат. Смотри, вот пара к ней. Я тот, с кем ты обещал подраться. Ты нам порядком нагрубил, молодчик”. На сей раз он использует множественное число, чтобы напугать солдата, на что я обратила внимание, когда читала пьесу в последний раз, готовясь к занятиям: “Ты нам порядком нагрубил, молодчик”. А капитан, стоявший рядом, быстро меняет свою позицию и советует Генриху наказать Уильямса: “С разрешения вашего величества, за это должна ответить его шея, если только существуют в мире военные законы”.
– Знаешь, я ничего такого не помню. Ту знаменитую сцену помню, а эту нет, совершенно не помню, – сказал Томас на сей раз по-испански и своим обычным, то есть настоящим, голосом, словно вдруг снова стал самим собой, возможно заинтересовавшись моим пересказом. – И что сделал король? Велел его казнить? Это было бы совсем несправедливо, это было бы злоупотреблением властью. Солдат ведь не знал, с кем на самом деле разговаривал той ночью, он принял его за простого воина, за ровню, с кем можно как поспорить, так и подраться.
– Именно так и отвечает ему Уильямс: “Ваше величество были тогда не в истинном своем виде; я принял вас за простого солдата. Темная ночь, ваша одежда и простое обхождение обманули меня; и потому все, что ваше величество потерпели от меня в таком виде, я прошу вас отнести на свой собственный счет, а не на мой. Ведь если бы вы и впрямь были тем, за кого я вас принял, на мне не было бы никакой вины. И потому прошу ваше величество простить меня”. Я, конечно, цитирую по памяти, – добавила я, – но смысл его аргументов был именно такой.
– А по-моему, этот Уильямс и не должен был молить о прощении, – сказал Томас с излишней горячностью (какую обычно проявляют самые неискушенные читатели и зрители, то есть дети и подростки). – Ясно ведь, что он не хотел его оскорбить. Если король выдает себя за кого-то другого, он перестает быть королем, пока разыгрывает этот фарс. И не имеет значения, что ему тогда сказали, даже если слова были обидными, непочтительными, даже если они призывали к мятежу; их вроде как и не было, на них нельзя обращать внимания, их надо просто стереть из памяти. Ну и как поступил Генрих? Казнил солдата или простил?
Томасу не терпелось узнать, как развязался этот узел, воспользовался ли Генрих тем, что услышал обманным путем, поняв, что солдат его презирает (с чего и начался их спор, их ссора и обещание решить дело поединком), или он снял с Уильямса всякую вину, какого бы мнения тот ни придерживался и с кем бы ни вступил в спор, не ведая, перед кем открывает душу. Я быстро посмотрела на мужа – то ли растерянно, то ли с нежностью и жалостью, а скорее с невольной иронией. Он продолжал неуклюже укачивать Элису, хотя она уже крепко спала и дышала ровно и спокойно. Я хотела было забрать у него дочку и отнести в кроватку, но решила не спешить.
– По-моему, ты совершенно прав, как прав и Уильямс, и это для всех очевидно. Скажем так: накануне сражения король внедрился в ряды своих солдат, в ряды тех, кто верно ему служит и готов умереть за него или за свою родину, что в ту эпоху было одно и то же и для армии – равнозначно. Если даже сегодня, вопреки серьезнейшим переменам, случившимся в мире, многие политики в своей непомерной гордыне склонны верить, будто они – это и есть страна, и многим из них удается убедить в этом толпы сограждан, то вообрази, как обстояло дело в тысяча четыреста пятнадцатом году. Солдаты задумывались о смысле войны, о том, правое дело защищают или нет, но у них и в мыслях не было спастись бегством или нарушить приказы командиров. Однако именно потому, что король действовал по-шпионски, он и не имел права потом воспользоваться услышанным, тем, что было ему сказано от чистого сердца и без опаски. Если он накажет солдата, то обманет доверие одного из своих подданных, который не подозревал, что может поплатиться головой за откровенные речи перед человеком, державшим себя по-свойски. А теперь солдат оказался в неравном с ним положении – без малейшего шанса оправдаться. Так мы оцениваем эту ситуацию сейчас, правда? Но ведь так же наверняка видели ее и во времена Шекспира, два века спустя после знаменитого сражения. Поведение Генриха кажется нам неправильным, нечестным. Король был всемогущим, его воля не оспаривалась, и поэтому, наверное, легко меняющий свое мнение капитан советует ему без раздумий казнить солдата, лишить жизни, которой не лишил его враг в только что оконченном бою – и оконченном с победой. Капитан считает: какая разница, как узнал король про дерзкие речи Уильямса, какая разница, кому обещал солдат дать пощечину, ведь на самом деле он угрожал королю, а король остается королем, даже если прикинется нищим, как это бывает в сказках. Так рассуждает капитан, во всяком случае, так ему велят рассуждать его убеждения и вера. Зовут капитана Флюэллен…