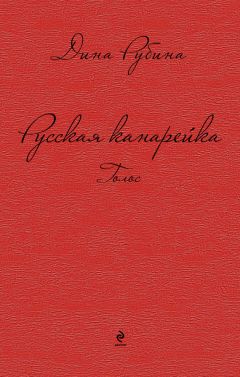Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Невозмутимый Винай следил, как в толще воды подсвеченного и просиненного голубой плиткой бассейна плавно кружит сильный гибкий угорь, то зависая в неподвижности, то устремляясь вперед, то свертываясь в клубок и вращаясь в медленном танце. Иммануэль велел подвезти коляску к бортику и смотрел в воду с нарастающим напряжением. Трижды кричал:
— Браво! — сначала с восхищением, затем с тревогой и, наконец, все сильнее вцепляясь в ручки кресла: — Ну, браво же, вылезай, суч-потрох! Я верю, ты отрастил жабры!
Еще три-пять-шесть невыносимых секунд Леон дал на заключительный аккорд. И лишь когда Иммануэль завопил:
— Хватит, идиот! — выбил тело вверх, хватанул ртом, гортанью, легкими воздуху, еще, еще (маленько перебрал, это правда), подплыл к бортику бассейна, подтянулся и, шумно дыша, лег на него грудью, щекой, бессильно разбросав руки.
— Ты что, спятил?! — брызжа слюной, крикнул старик. — Еще секунда, и мои нубийцы прыгнули бы тебя выволакивать.
По виду обоих этого не скажешь, подумал Леон. Тассна повернулся к брату и что-то негромко сказал ему по-тайски.
— Переведи, — попросил Леон Виная.
— Тассна время засек: семь минут тринадцать секунд, — улыбаясь, отозвался Винай по-английски. — Говорит, ты как рыба в ручье на нашем острове. В тебя хочется воткнуть багор, вытащить и зажарить.
На ужин они как раз и подали жареное филе амнона с какими-то приправами, которые привозил из дому Винай. (Тот вообще довольно часто отлучался: кажется, у него осталась дома то ли больная мать, то ли больная сестра. Во всяком случае, Тассна научился управляться со стариком один, тем более что с годами тот все больше усыхал, превращаясь в тщедушного ребенка.)
Кроме рыбы и салата, как всегда украшенного восхитительной розой из лиловой луковицы, «ужасные нубийцы» подали фирменный напиток из апельсина с клюквой, который можно было пить канистрами; Леон заглотал чуть ли не целый литр и ожил.
Они сидели за раскладным столом у кромки бассейна, и хотя ночь стояла душная, влажная, пропитанная запахами жасминовых и миртовых кустов, неукротимо разросшихся в том году по периметру патио, от свежей воды поднималась волна прохлады, и сам бассейн, пронизанный золотыми струями электрического света, казался голубым кристаллическим кубом на гигантской витрине какого-то вселенского ювелира.
— Отпусти ребят, — сказал Леон. — Я сам тебя уложу.
— А знаешь, что я заметил? — задиристо спросил Иммануэль. — Ты не слишком жалуешь моих ужасных нубийцев.
— Глупости, — возразил Леон. — Напротив, я им благодарен: они так нежно за тобой приглядывают.
Да, «нубийцев» он не любил. Переходил на русский, когда они появлялись. Просил Иммануэля никогда в их присутствии не заговаривать о его работе. Да они ни бельмеса в иврите, говорил тот и даже обижался: был привязан к своим незаменимым «сиделкам». Леон упрямо считал, что постоянно звучащий в доме иврит за все эти годы мог бы осилить кто угодно. Но к чему искать смысл и подоплеку в летучей смене тональностей, в такой изменчивой материи, как симпатии и антипатии?
Он не любил «ужасных нубийцев». Не любил, и все. И сейчас настоял, чтобы Иммануэль отправил их отдыхать — ведь они действительно тяжело работали в этом доме.
Леон сидел за столом в банном халате Иммануэля и старался слушать старика. А тот, оседлав любимого конька, все говорил и говорил, и это была милосердная для Леона возможность помолчать; блаженная пауза, свобода вдоха. И он молчал, время от времени судорожно втягивая влажно-пахучий воздух; дышал глубоко и часто, будто слишком долго пробыл под водой — не в буквальном, в каком-то совсем ином смысле, — а сейчас его выбросило наружу с пружинной силой, и можно просто молчать и жадно дышать миртовым воздухом ночного сада, прикрывая клапан над свищом пронзительной боли, над неотвязной мыслью, что все кончено (что, что кончено?!), что мать уже не будет матерью, Владкой, его неразумным ребенком (точно, зачиная его, она обязана была подать прошение в какую-то специнстанцию), что вся жизнь уже не может быть прежней.
Здесь он дышал, слушал, не слушал, рассеянно кивал, глядя, как в струе желтого света — от лампы, зажженной в холле, — подрагивают, колеблемые слабым ветерком, сабельные листья старой пальмы.
— Вот в чем парадокс, — говорил старик, расправляя салфетку на коленях. — Отдельный интеллектуал может гордо открещиваться от своей веры и своего народа, провозглашая надмирность; может, как Пастернак, страстно проповедовать идею полного растворения, может всем своим существом служить культуре, языку, искусству народа, в среде которого родился, вырос и живет. Такая самоустановка порой свидетельствует о силе духа, о характере человека, об оригинальности таланта. Отпадение от общины и духовное одиночество (возьми великого Спинозу) могут вызывать сочувствие, могут даже восхищать — особенно когда влекут за собой проклятия, плевки в спину, анафему со стороны соплеменников. Но совсем иное дело — народ в своей целокупности: суть народа, тело народа, его пульсирующее и вечно обновляющееся ядро. Тогда ассимиляция — самое страшное, что можно любому народу пожелать. Тогда ассимиляция — растворение, исчезновение, назови как угодно — совсем не воспринимается доказательством силы или характера народа, наоборот: это свидетельство слабости, импотенции, истощения духа, одним словом — невозможности продолжать быть. Помнишь, в пророчестве Эзры есть и такое: народ, мол, ослабнет до того, что не смогут всем скопом зарезать петуха? Это всегда следствие каких-то ужасных геополитических катастроф: войн, эпидемий, изгнания с земли предков, истончения генетической материи рода; попросту — вырождения… Разве может восхищать судьба исчезнувших Древнего Рима или Египта? Свидетельства мощи их цивилизаций — да, весьма поучительны и прекрасны; но кто согласится разделить подобную судьбу?
Леон давно научился определять, когда Иммануэль совершенно серьезен и искренен и по-настоящему увлечен ходом своих мыслей. В такие минуты старик не следил за тем, чтобы «цуцик» брал попробовать то и это, и не прерывал свою речь, дабы спросить, согласен ли Леон, что Тассна готовит «суси» лучше любого долбаного японца? Короче, Леон прекрасно чувствовал те минуты, когда Иммануэля нужно внимательно слушать и помалкивать — вне зависимости от того, согласен ты с ним или нет. Сейчас старик говорил с какой-то страстной убедительной силой — не только для «цуцика», стоящего в начале пути, но и для себя, чей путь пройден. Это была выношенная всей его жизнью правда, подведение самых важных, самых сокровенных итогов.