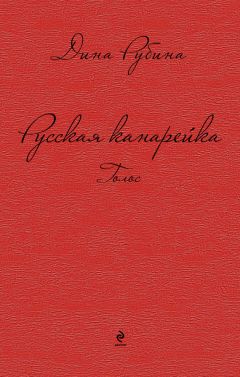Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Только Шаули, простодушный друг, к которому он переехал «пожить» на неопределенное время, но избегал говорить о своих делах, уходил из дому по утрам и пропадал до позднего вечера, а иногда и возвращался под утро, — только лицо Шаули осталось в памяти естественным: ни притворного сочувствия, ни натужной приветливости. Впрочем, в тот период Шаули и сам был чертовски занят в одной операции, то и дело исчезал, а вернувшись, просто заваливался спать, ничего не рассказывая и не объясняя. Друг с другом они общались короткими бытовыми фразами или оставляли записки: «Хорошо бы хлеба купить», или: «Хумус кончился».
И еще — Иммануэль.
В тот поздний вечер, когда небритый, обросший, нечесаный, провонявший специфическим запахом заведения Леон примчался к нему на мотоцикле и, ворвавшись в спальню, прямо с порога всё вывалил, старик глянул на него поверх очков и невозмутимо предложил… выпить.
— Серьезно, — сказал добродушно, всем своим уютно-вечерним видом отменяя смысл короткого слова, только что выхарканного Леоном с такой горечью. — Налакайся, как свинья, и отлежись у меня денька три.
Велел ему принести из бара бутылку коньяка, но тотчас передумал и послал на кухню за водкой: — Жаль на твою дурь тратить приличный напиток, — пояснил чуть ли не весело. — И помоги одеться, — приказал, — если уж свалился на голову среди ночи. Мои ужасные нубийцы терпеть не могут этих карнавалов с внезапным переодеванием. Они считают: уж лег так лег, старина! Дрыхнут, наверное…
«Карнавал» с поэтапной сменой пижамы на брюки и халат, с осторожным перемещением иссохшего старика в кресло (обиходные действия внутри разумного и милого сердцу Леона миропорядка) немного его успокоили.
— Жаль, что ты не алкаш, — заметил Иммануэль, наливая водку в белую чашку, из которой обычно запивал лекарство. — Это ведь благословение божье — забыться.
Вообще-то, Леон любил мягкие коктейли, как любил когда-то рюмочку Магдиной вишневки или сливянки; в барах проводил иногда по нескольку часов, сидя над одним бокалом. Водки терпеть не мог, но сейчас послушно выпил, потому что с детства слово Иммануэля было законом. Глотнул с омерзением, содрогаясь своим драгоценным горлом.
— Нет, — покачал головой Иммануэль, наблюдая эту позорную картину. — Не дано тебе, малый, такого счастья. Не заберет и не поможет, это уж очевидно. Проклятая, трезвая еврейская голова!
И когда Леон вскинулся (с лицом, искаженным отвращением и мукой) в попытке вновь выговорить свое новое естество (как недавний вдовец к словам «моя жена», запинаясь, непривычно добавляет «покойная», сам не веря тому, что произносит его язык), Иммануэль поморщился и раздраженно поднял ладонь, останавливая его:
— Этот вздор настолько выбил тебя из седла, цуцик? Мне… — и, чеканя каждое слово: — …досадно — это — видеть!
За годы в их отношениях сложился свой языковой протокол: наедине друг с другом они говорили по-русски. Иногда Иммануэль перескакивал на иврит, если речь заходила о каких-то забавных израильских типах, историях или сценках (он называл это «местным колоритом»). Но любой важный разговор наедине вручался одному лишь посреднику: русскому языку. И тогда Леон чувствовал, что между ними протянута особенная, проникновенная родственная связь.
— Кровь?! — презрительно воскликнул старик. — Недалеко бы мы ушли, выцеживая свою дутую чистокровность сквозь сито всех гетто, погромов, крестовых походов и костров инквизиции. Нет, парень: кровь сознания — вот что имеет значение. Вот что нам удалось сохранить и взрастить в поколениях. Такой сорт мужества: помнить, не расслабляясь и не размякая на душевный отклик чужого, ибо он тоже — вздор и дым; он тоже — до первой увертюры партайгеноссе Вагнера…
В дверях появился Тассна — то ли не спал, то ли проснулся от голосов. Ревниво нахмурился, застав старика уже в кресле, одетым, да еще с бутылкой спиртного.
Налив себе водки, Иммануэль движением руки остановил протестующего «нубийца» и выпил из своей «лекарственной» чашки просто и легко, не закусывая.
— Эх, вот бы так помереть: с последним глотком водки в желудке, — заметил он. Снял очки и, щурясь, принялся задумчиво разглядывать Леона, как незнакомца. — Видал, как надо мной трясутся мои нубийцы? Боятся потерять работу, когда я откину хвост. А я ведь очень скоро его откину. Поэтому позволь я договорю — на всякий случай. Вот ты мне сейчас — о крови, в которой ты заблудился. Удел чистокровности! Хо, это слишком просто, цуцик. Для нас — это слишком примитивно. Это как плыть по течению: родился, принадлежал, упокоился с миром. Это для баварского крестьянина с перышком на шляпе. Нет: бесстрашие — принять долю, и больше того — приговорить себя к этой доле. Бесстрашие перед своим одиночеством, высокомерие одиночества — сквозь тысячелетия улюлюканья, насилия и подлой лжи… Готовность продолжать путь с одним попутчиком — с самим собой, и даже Богу не позволить обзавестись атрибутами, дабы не поддаться искушению нащупать его бороду и пустить в нее слюни. Вот это — наш удел. Так что утри сопли и пошел в душ — от тебя разит черт знает чем.
Обернувшись к Тассне («если уж ты сам явился, парень!»), старик принялся давать ему указания — что там поджарить и какую на скорую руку соорудить жратву для этого странного и очень позднего ужина или очень раннего завтрака — цуцик, видимо, одурел от голода, надо его покормить.
— Да, и салату принеси, того, из холодной говядины. Одарим гостя луковой розой Виная.
И когда Леон направился к ванной, Иммануэль крикнул ему в спину:
— После в бассейн непременно! Мы сегодня воду меняли. Поплавай, отмокни, я на тебя полюбуюсь — красивый ты, как… суч-потрох! А потом поужинаем.
Минут через десять Леон — в полотенце, накрученном на бедра, — вышел в патио, где старик все еще командовал Тассной, сердился, что-то доказывал. Кажется, требовал добавить в соус горчицы или сахара. Но Тассна оставался невозмутим и несокрушим в своем поварском достоинстве. К тому же сахар старику не полагался из-за диабета. Как и водка.
Тут же присутствовал заспанный Винай; видимо, решил, что без него не справятся.
Нечего сказать, устроил переполох этот поздний гость.
— Я не нашел там плавок, — сказал Леон.
— Какие плавки, плюхайся так! Аллах тебя простит, а баб мы не держим.
— Хочешь, покажу, сколько могу жить под водой? — неожиданно спросил Леон, снимая и отбрасывая на кресло полотенце.
— Валяй.
— Засекай время! — крикнул тот, вдохнул и ушел под воду.