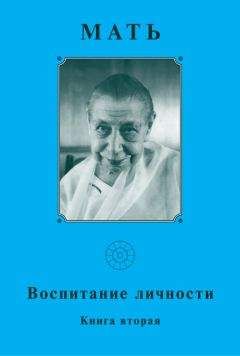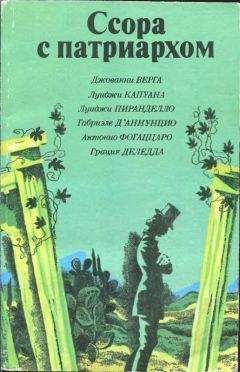Алексей Каплер - «Я» и «МЫ». Взлеты и падения рыцаря искусства
Победа
Тонкое, иконописное лицо. Бородка. Прозрачные, вдумчивые глаза. Сдержанная, как бы снисходительная к человеческим слабостям улыбка.
Даже отсутствие двух передних зубов не портило его лица.
Он приходил каждый день, доставал из-под телогрейки книгу и усаживался на полу у окна.
Свои обязанности хронометриста Алексей Алексеевич исполнял за три-четыре часа. Остальное время длинного рабочего дня он читал, сидя у меня в машинном отделении.
Здесь было спокойно. Я даже имел право закрывать дверь на крючок изнутри, чтобы никто не отвлекал от работы. Моей обязанностью было поднимать и опускать шахтную клеть. От внимательности машиниста подъема зависит и работа шахты и человеческие жизни.
Раздавались сигналы, я приводил в движение барабан, на который намотан стальной трос. Снова сигналы – барабан останавливался.
Всякий сигнал имеет свое значение. Один – стоп. Два – вниз. Три – вверх. Четыре – люди. Двенадцать – поднимай очень медленно, везут больного.
Огромные скрижали с расшифровкой сигналов висели перед моими глазами на стене. Но мы, машинисты, знали их наизусть. Меня можно было разбудить ночью и спросить, что такое три сигнала и, какие бы перед этим ни снились кошмары или сладкие сны, я бы сказал: «Три – вверх».
Строительство шахты еще не было закончено, но уголь – попутная добыча – поступал на эстакады, вывозился, уже планировался. Итак, в мое машинное отделение каждый день приходил читать Ковалев. Он проглатывал книги с необыкновенной скоростью. Маленькая библиотечка КВЧ – культурно-воспитательной части – была давно им прочитана от корки до корки. Теперь он добывал книги у тех, кто получал их в посылках и бандеролях, или у заключенных, приходящих с новыми этапами.
Ковалев чутьем безошибочно угадывал, у кого именно в новом этапе имелись книги, кто из нас получил из дома бандероль. Давали ему книги охотно, потому что он обращался с ними аккуратно и возвращал на другой день.
Известно было, что Ковалев и сам пишет, но никому он своих сочинений никогда не показывал и не говорил о них. Рукописи тщательно прятал и перепрятывал в новых местах, опасаясь, что их отберут во время очередного планового или внезапного внепланового обыска.
Я встретился впервые с Ковалевым, когда он отсидел в заключении пятнадцать лет. Оставалось еще около десяти. Срок ему все время добавляли – то решением Особого совещания, то по приговору лагерного суда. Недавно, не выходя из лагеря, он получил новую десятку.
Алексей Алексеевич понимал, что на волю его не выпустят никогда, и давно с этим примирился.
О всяком начальстве, в том числе и о правительстве, Ковалев говорил желчно, раздраженно. Годы странствий по тюрьмам и лагерям не произвели на него благоприятного впечатления.
Сын московского врача, школьник десятого класса, Алексей Ковалев был арестован за участие в подпольной, антисоветской, террористической организации.
Во время следствия им предъявили обвинение в подготовке покушения на товарища Сталина: они, мол, собирались сбросить на него бомбу при проезде по Арбату. Бомба якобы должна была быть сброшена из окна Наты Вешкиной, жившей, как следовало из прописки, действительно на Арбате.
Это было одно из обыденных молодежных дел, скроеных по стандарту.
Ребята говорили на следствии, что Ната живет только формально на Арбате, квартира ее находится со стороны Староконюшенного переулка, а ее окна, кроме того, выходят даже и не в переулок, а во двор. И все это можно легко проверить.
С той же просьбой они обращались к прокурору, когда он утверждал обвинительное заключение.
Но начисто лишенный чувства юмора, молодой человек не обратил на эти слова никакого внимания и обвинение утвердил.
О ликвидации террористической организации, как обычно, было доложено вверх, вплоть до самого товарища Сталина, и, как обычно, за эту операцию кое-кто получил награды и повышения, а кое-кто очередные звания.
Одного из участников «подполья», как обычно, расстреляли, остальным дали по десять лет – это было в те годы максимальным сроком.
Расстрелян был самый близкий друг Алексея – тоже десятиклассник Вася Котиков. Они дружили всю свою короткую жизнь. Васька заикался, но это не мешало ему быть первым трепачем, весельчаком, заводилой и шалопаем. Лешка и Васька жили в одном дворе и за время своей дружбы сотворили вместе неисчислимое количество разных пакостей. Вместе преследовали они задаваку Лидку из дома номер семь и вместе прокалывали баллоны «Крайслера», привезенного ее отцом из командировки в Америку.
Потом настали новые времена, появились новые настроения, Васька затих, стал задумчивым, потом организовал «Всемирный союз романтиков». Ребята играли в таинственность, сделали себе печать, подбрасывали сверстникам призывы вступать в «организацию». И доигрались…
Узнав о расстреле Василия, Ковалев поклялся в вечной ненависти к тем, кто это сделал.
Заключенные с опаской слушали то, что иной раз говорил Ковалев, а кое-кто доносил об этом «куму» – оперуполномоченному.
Именно эти высказывания Ковалева и служили причиной постоянных репрессий и новых сроков.
Репрессии, в свою очередь, вызывали у Ковалева еще большее озлобление. К тому времени, когда я встретился с Ковалевым, он уже не произносил ничего «крамольного», но в каждом его взгляде, улыбке, пожатии плечом, когда при нем заходила речь о политике, чувствовалась неприязнь, насмешка, отрицание советской действительности.
Свои служебные обязанности Ковалев выполнял квалифицированно и добросовестно. Однако же его начальник – заведующий тарифно-нормировочным бюро шахты Волков – возненавидел Алексея Ковалева черной ненавистью.
Волков был вольнонаемным, приехал сюда, соблазнившись высоким окладом и северными надбавками. К несчастью, надбавки шли не так уж быстро: по десять процентов в год, и это злило Волкова.
Маленький, кривоногий человечек с лицом, изрытым следами оспы, – таким был Волков.
Пять лет назад в Одессе вступил он в партию. Взносы платил своевременно, взысканий не имел.
Здесь, на шахте, был избран в партбюро, ни разу ни по одному вопросу не выступил и, следовательно, ни разу ни в чем не ошибся.
Волков должен был возненавидеть Ковалева, и Ковалев должен был ненавидеть Волкова. Волкова бесила тонкость, рафинированность Алексея Алексеевича. Тем более что проявлялась в существе низшем – в заключенном. Волков ненавидел начитанность Ковалева, его скептическую манеру разговора, красоту его лица, длинные пальцы, легкость походки.
А Ковалеву все было противно в Волкове: неграмотность речи, душевная тупость, казенные «положено», «не положено», лексикон, ограниченный самыми необходимыми словами, как у Эллочки-людоедки, грубый внешний облик.
И вот однажды, не утруждая себя поисками какого-нибудь предлога, Волков отчислил Алексея Алексеевича от ТНБ. На следующий день Ковалев был занаряжен не на шахту, а на общие работы.
Он отказался выходить на работу и был водворен в БУР – барак усиленного режима.
Хотя Ковалева и наказали, но его отказ не удивил начальство лагеря. По неписаным лагерным законам, которых придерживались и начальники, старый лагерник, отсидевший большой срок, не посылался на общие работы. «Старослужащим» делалась поблажка, и, если нельзя было использовать их по специальности, определяли в дневальные, санитары, сторожа и т. п.
С Ковалевым поступили несправедливо. Нарядчик открыл нам причину – Волков…
На следующий день Ковалева вывели из Б У Ра и снова направили на общие работы. Он снова не пошел. Тогда его заключили в БУР на месяц.
Лагерная тюрьма – БУР – помещалась в самом конце зоны и ограждена была колючей проволокой. Заключенный в БУР получал в день триста граммов хлеба и кружку воды.
Прошел месяц. Ковалева выпустили и снова назначили на общие. Он снова отказался.
За этой борьбой напряженно следил весь лагерь.
О строптивом заключенном доложили начальнику нашего лагеря подполковнику Басову, и он велел привести Ковалева.
Басов в прошлом был военным, строевиком. За какие-то грехи отправили его на Север в систему ГУЛага. Человеком он был ограниченным, но не злым.
Ковалев стоял в кабинете начальника, хмуро смотрел в пол и не отвечал на вопросы.
Басов встал, взял его за плечи, усадил и попросил по-человечески, по-дружески объяснить, в чем дело.
Недоверчиво косился на него Ковалев: начальник лагеря для него был один из тех, кого он должен ненавидеть, кому нельзя ни в чем доверять. А вместе с тем в голосе, во взгляде этого человека чувствовалось что-то, невольно вызывавшее в озлобленной душе Ковалева доброе чувство.
И терпение Басова, хорошие его слова, в конце концов, смягчили Алексея Алексеевича, дошли до него.
– Поймите, это вопрос принципа, – сказал он, – я пойду на любую работу, только не на общие. Хоть ассенизатором пошлите – пойду.