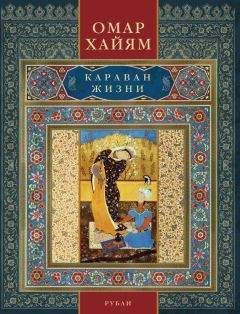Пол Теру - Моя другая жизнь
Бёрджесс был добр со мной, но порой мог и рассердиться, и, глядя, как он попыхивает своей зловонной трубкой или держит ее в дрожащих пальцах, словно дымящийся карандаш, я чувствовал, что душа у меня уходит в пятки. Он на дух не переносил английский средний класс и очень резко реагировал на то, что, по его мнению, было проявлением мещанства. Даже в обычном разговоре он употреблял такие слова, как кудесник, боговдохновенный, идиолект, которые использовал в своих текстах. Он всегда останавливался в лучших отелях — в Лондоне это был «Кларидж», — хотя постоянно жаловался на бедность, — возможно, стеснялся того, что так много пишет и так много публикуется. При том что Бёрджесс старался жить экономно, он всегда щедро давал на чай. Этим вообще порой грешат те, кто рос в стесненных обстоятельствах. Они так поступают из страха и сочувствия, отлично понимая состояние тех, кто их обслуживает. Хорошие чаевые — неловкая попытка задобрить слабых и завистливых.
— А он пьет? — поинтересовался у меня Летфиш, который сам в этом отношении проявлял, я бы сказал, чрезмерную осторожность. Он мог долго сидеть над полпинтой пива, которое ошибочно именовал «горьким».
— В известном смысле, — дипломатично отозвался я.
— Готов поспорить, он еще хуже меня! Я-то всегда что-то там лакаю.
Бёрджесс пил довольно много, хотя алкоголиком не был. Он был слишком поглощен своей работой, чтобы огрублять или принижать литературный процесс употреблением спиртного. Только завершив трудовой день, Бёрджесс налегал на джин, ублажал себя вином, накачивался пивом. «Вы уже всё?» — поинтересовался он, когда однажды в лондонском ресторане я отставил бокал с вином, допить который не было сил. После чего преспокойно взял бокал и одним глотком осушил его. Я не переставал дивиться его неугомонному уму. Алкоголь снова делал его настоящим ирландцем — и заставлял многое ему прощать. В те несколько раз, что я видел Бёрджесса пьяным, на его лице появлялось выражение той крайней незащищенности и страдания, какое бывает у людей, отождествляющих состояние опьянения с чем-то позорным, — выражение муки и виноватого удивления.
Я не знаю писателя, который превосходил бы его в трудолюбии или щедрости. Разумеется, он имел право выбирать для рецензирования лучшее из появившегося за неделю, а выскочкам вроде меня и Иэна Маспрата доставались остатки. Но именно Бёрджесс обладал интеллектом, стилем и самоуверенностью, позволявшими ему браться за рецензирование нового издания Британской энциклопедии, Оксфордского словаря английского языка или одиннадцатого тома «Дневника» Пипса. При этом у него оставалось время на знакомых, студентов, начинающих писателей. Он написал предисловие к французскому изданию моего романа «Les conspirateurs»[70] и в виде шутки подписался Антуан Буржуа.
Бёрджесс писал прозу и сочинял музыку. «Что касается литературы, — как-то сказал он, — я откликаюсь на все разумные предложения. — И, помолчав, добавил: — И на неразумные тоже». Возможно, стать великим писателем ему мешали его непоседливость, нетерпеливость, сверхпродуктивность. Но он и не помышлял о величии; он только хотел писать качественно и оригинально. Он не был жесток. В его великодушии была большая мудрость. На мой взгляд, это было его главным достоинством. Он мог выключиться на какое-то время, забыть о своем и оценить то, что делают другие.
— Однажды я решил написать книгу путевых очерков, — как-то сказал Бёрджесс. — Мы сели в наш «дормобиль» и покатили на юг Италии. Точнее, в Калабрию. Все шло отлично. Нас замечательно кормили. Каждый день я садился и записывал свои впечатления. Думал, получится книга. Но недели две спустя понял, что все это жуткая чушь.
— С удовольствием почитаю вашу книгу о южной Италии, — заметил я.
— У меня так ничего и не вышло, — отозвался Бёрджесс. — Но я вот что вам скажу. Раз в год я перечитываю ваш «Железнодорожный базар».
Это был типичный бёрджессовский комплимент. Причем по-бёрджессовски очень щедрый, однако я знал — ему действительно понравился «Базар». И я начал понимать, почему он относится ко мне с симпатией. Я сумел написать так, как ему не удалось. Он стал моим читателем. Но именно по этой причине я восхищался Бёрджессом и многими другими. Они делали то, на что я оказался не способен. Не понимая, как именно возникает книга, я ценил по достоинству умение прекрасного писателя проникнуть в читательскую душу. Это было самое главное. Как такое удается?
Простой читатель восхищается писателем, но только его коллега по перу в силах оценить волшебство. Порой мне казалось, что я — единственный читатель Бёрджесса. Потому-то появление Летфиша сначала озадачило, а затем и рассмешило меня. Летфиш вбил себе в голову, что владеет частью Бёрджесса — на том основании, что собирает его книги. Меня обижало, что Летфиш не видит творческих мук, скрывающихся за страницей печатного текста. Самонадеянность, сквозившая в его словах «Я его собираю», выводила меня из себя.
Я благоговейно относился к достижениям прекрасных писателей и мучился неспособностью понять их жизнь. Я открыл для себя истину, известную очень немногим читателям: написать ту или иную конкретную книгу может тот или иной конкретный писатель и больше никто. Мое восхищение их победами вырастало из недоумения — как же им такое удавалось?! Такие писатели вдохновляли меня тем, что сначала заставляли почувствовать себя глупцом, а потом вдруг рождали во мне ощущение, что я кое-что все-таки понимаю.
Тот, кто читает замечательную книгу, исполняется вдохновением и сознанием собственного невежества, недоумением и верой, превращается в послушного, завороженного ученика, ковыляющего за величественной фигурой автора.
Мне было понятно, как пишут книги обычные писатели. Это добротная столярная работа, ремесло, доступное другим писателям, но все-таки не искусство. Тебе ясно, где и как все подогнано, как навешено на петли. Люди, не имевшие отношения к литературному творчеству, нередко советовали мне почитать то-то и то-то. Я упоминал Нью-Йорк и слышал: «Обязательно прочтите…» Называли очередную недавно вышедшую книгу, но я никак не мог втолковать тем, кто сам не пишет, что эти книги, возможно, обладают энергией и заслуживают успеха, но меня они не вдохновляют, и вообще их явно перехвалили. Я просматривал такие тексты и понимал, как они устроены. Без тени иронии я говорил, что и сам так могу, — собственно, и делал что-то похожее.
Но зато было много блестящих писателей, читая которых я испытывал тягу к процессу писания, надеялся, что и меня посетит вдохновение, не боялся потерпеть неудачу. Я не сравнивал наши книги, зато сопоставлял наши судьбы. Я не знал ни одного хорошего писателя, которому писалось бы легко.
Бёрджесс, как и я, сражался вовсю. Стремление одолеть все преграды сделало его эксцентричным и щедрым, а его книгам придало энергию, вдохнуло в них жизнь. Бёрджесс был слишком влюблен в язык, отчего тексты его порой делались манерными. Я видел в этой буйной словесной игре не проявление красноречия, но скорее неуклюжесть — что-то вроде милого дефекта речи, легкой шепелявости…
Мне нравилась его проза, возможно, в ней не было блеска, но тем не менее она будоражила меня и, бросая вызов закону гравитации, парила, сохраняя свою тяжеловесность, — словно подушка, набитая парадоксами. Бёрджесс любил сводить воедино добро и зло. Он был из числа авторов, которыми я восхищался. Хотя я не мог воспроизвести его почерк, я понимал, что это в принципе достижимо. Он был талантом, хотя и не гением. И это стало еще одной причиной, по которой я внимательно его читал: я мог у него кое-чему научиться. Такие авторы вдохновляли меня — только не на подражание, а на самоосуществление, они внушали мне желание писать свое.
Бёрджесс жил за границей — скорее всего, из-за нежелания платить налоги, хотя время от времени отпускал реплики в духе Джойса насчет искусства и изгнания. Сэм Летфиш все активнее домогался моего общества, и половину его приглашений на ланч или выпивку в баре я принимал. Меня смущало, что я не отвечаю ему тем же. Летфиша это, напротив, совершенно не волновало. Ему даже скорее нравилось, что я как бы перед ним в долгу. Я все удивлялся, почему терплю его общество. Потом решил, что не иначе как меня завораживает его собирательство, его внимание к мелочам, терпение, жажда приобретать, а главное, что это все — свидетельство его богатства и власти.
Кстати, лишним подтверждением последнего обстоятельства служило то, что давно Летфиш коллекционировал казалось бы несущественные, но дорогостоящие предметы, имеющие отношение к жизни Бёрджесса, — именно в силу того, что они являлись раритетами. У Летфиша имелись: один из старых паспортов Бёрджесса, оловянная кружка из Кота-Бару, подаренная Бёрджессу султаном, кожаная сумка, принадлежавшая некогда Бёрджессу, бумажная салфетка, на которой он однажды набросал не слова, не рисунки, а ноты, англо-русский словарь с экслибрисом Бёрджесса, а также авиабилет на рейс Нью-Йорк — Лондон на его имя.