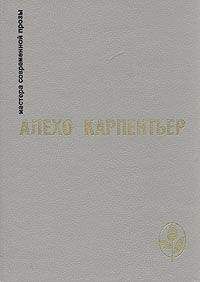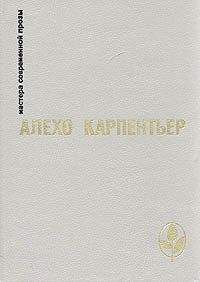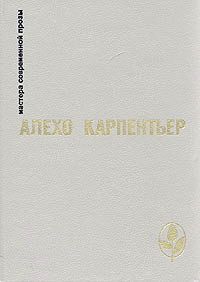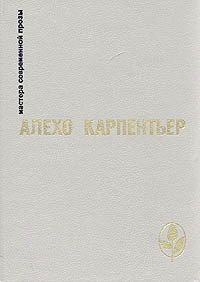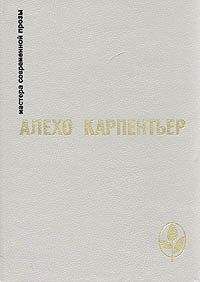Алехо Карпентьер - Превратности метода
В эту минуту до кабинета донеслась струнная музыка — медленная, нежная, печальная, многократно отраженная сводами арок за цветущими фламбойянами Центрального Парка. «А, уже начали! — воскликнул Глава Нации. — Эльмирита говорит, что такое приносит несчастье… Закрой окно, Перальта…» Поспешно захлопнул окно секретарь, неожиданно столкнувшись с повседневностью Сделок со Смертью — единственного, процветавшего в кризисные времена бизнеса, чем занялись ловкие люди, знающие, как вести дело со всегда гарантированной клиентурой, побуждаемой атавистической тоской по Беспробудному сну в потустороннем мире.
Во всей стране в процессе слияния традиций эстремадурское[319] — все-таки наш первый конкистадор родом был из Касереса, как и Писарро, — смешалось с индейским, и похоронный ритуал был весьма сложным, пышным и долгим. Когда в селении кто-нибудь умирал, в дом покойника приходили все соседи, и бдение у гроба выливалось в торжественное, вызывавшее широкий отклик действо — это было собрание мужчин в подъезде, в патио, на тротуарах, а драматический фон: плач, стенания, рыдания и обмороки женщин — и в течение всей ночи не прерывалось угощение черным кофе, шоколадом в чашках из высушенных тыквочек, дрянным винцом и крепким агуардьенте; это было представление с волнующими объятиями, надгробными молитвами и жалобами — и с исполненными величия примирениями семейств: вчера враждовавшие между собой после многолетней разлуки сегодня встречались по столь исключительному случаю.
Затем следовали траур, полтраура, четверть траура, никогда не кончавшийся траур, который, если речь шла о приятно выглядевшей вдовушке, соблюдался до нового бракосочетания. И такая традиция сохраняется поныне в Столице, хотя сцена кое в чем изменилась. Покойники пребывали и отпевались уже не в собственных домах, а в похоронных конторах, число которых беспрерывно увеличивалось — население росло, прибавлялось и количество усопших, — конторы эти соперничали между собой в нововведениях, в роскоши обслуживания опекаемых. Мало-помалу похоронные фирмы стали скапливаться и в центре города, сжимая круг зловещей тени возле Президентского Дворца, — с гробами, постоянно приносимыми и уносимыми, с перевозимыми цветами, с перемещением ангелов и распятий, с передвижением коней в черных чепраках, застекленных катафалков, с привозом по ночам окоченевших анатомических останков, обернутых в зеленые саваны… Из всех контор, конечно, выделялась одна, только что открытая, и совсем близко, рядом с Министерством внутренних дел, — в ее пристройке даже была размещена гримерная наподобие «Deuil en vingt-quarte heures»[320], что находилась в Париже, за собором Мадлэн, на углу Рю Тронше. В похоронной фирме «Вечность» самым примечательным было то, что родственники для принятия у катафалка соболезнований, выражений сочувствия могли избрать по своему вкусу мебель, декорации и общий стиль.
Там были Колониальный зал, зал Империи, зал Испанского Возрождения, зал Людовика XV, зал Эскориала, Готический зал, Византийский зал, Египетский зал, Сельский зал, Масонский зал, Спиритический зал, зал Розенкрейцеров — с креслами, эмблемами, орнаментами, символами, соответствующими характеру помещения. И если таково было желание клиентов, то в качестве последней новинки в обслуживании, позаимствованной в Соединенных Штатах, траурное бдение сопровождалось тихой, мелодичной музыкой, без каких-либо контрастных по тембру и темпу звучаний, пусть не подчеркнуто похоронной и в ладанной дымке исполняемой квартетами или небольшими ансамблями струнных инструментов с гармоникой, скрытыми за решеткой с бессмертниками либо за венками на подставках; и из репертуара этих музыкантов чаще всего можно было слышать «Размышления» из «Таис», «Лебедя» Сен-Санса, «Элегию» Массне, «Ave Maria» Шуберта или Гуно, исполняемые вновь и вновь, без перерыва, с момента прибытия урны и до ее отправки на кладбище. Эти мелодии с самого рассвета докучали Главе Нации во Дворце, и он, крайне раздраженный необходимостью выслушивать одно и то же, повторенное сотни раз — громче в те часы, пока не начиналось движение автомашин по Центральному Парку, — приказывал наглухо закрывать окна, и все же мелодии эти неотступно его преследовали, продолжая сверлить мозг. Снова заснуть он мог, лишь обратившись к помощи «Санта Инес» из чемоданчика — «Гермеса», всегда наготове стоявшего у изголовья его гамака…
И как раз потому, что навязчивые звуки доносились из недели в неделю, в одно прекрасное утро он почувствовал себя оглохшим, да, оглохшим от… тишины — от небывалой тишины. Окна были открыты Мажордомшей Эльмирой еще на заре, но в опочивальню Президента врывался лишь бриз, легкий, пахнущий утренней зеленью, и не раздавалось ни одной ноты «Элегии», «Лебедя», «Раздумий», ни «Ave Maria».
«Что-то чудное случилось», — сказал он себе.
В самом деле, чудное, поразительнейшее случилось-еще неслыханное, не припоминаемое никем, даже стариками, которые дольше других помнят.
Свой день — тот день — Столица встречала в молчании, в тишине, которая была не только погребальной, но которая была тишиной других эпох, тишиной давних зорь, тишиной тех времен, когда на главных улицах города паслись козы; и эта тишина сегодня лишь порой прерывалась отдаленным ревом осла, коклюшным кашлем, плачем ребенка. Не сигналили автобусы, Не тренькали трамваи. Не звонили повозки молочников. И — что было еще более странно — булочные и кафе, открывавшиеся спозаранку, держали двери на замке, не поднимались и металлические жалюзи магазинов, На улицах не было бродячих торговцев с горяченькими кренделями-чуррос, с плодами тамаринда «для печени», со свежими устрицами из Чичиривиче, с пирогами-тамалес из доброй маисовой массы, не слышно и рожка продавца сладких хлебцев…
Все это предвещало события исключительной важности, предвещало той тревожной озабоченностью, тем боязливым ожиданием, скрытым и неопределенным, что можно наблюдать — пусть предупреждение до поры до времени остается непонятным — накануне сильного землетрясения или вулканического извержения, (Деревья в районе Парикутина[321] «испытывали страх», выглядели серыми от немого ужаса за многие недели перед тем, как к ним неспешно и неумолимо стала по земле подползать лава, задолго до того глухо бурлившая под корнями в земных глубинах…)
«Однако… что случилось? Что такое?» — спросил Глава Нации, увидев входившего в его кабинет Доктора Перальту, за которым следовали министры и военачальники, грубо нарушая обособленность помещения, попирая протокольные нормы. «Всеобщая забастовка, сеньор Президент!» — «Всеобщая забастовка? Всеобщая забастовка?..» — переспросил он (спрашивая в то же время и самого себя), будто одуревший, не понимая остальных, не понимая ничего. «Всеобщая забастовка. Или, если хотите, — всеобщая стачка. Все закрыто. Никто не вышел на работу». — «И муниципальные служащие?» — «Нет автобусов, нет трамваев, нет поездов…» — «И ни одной души на улицах», — подала голос Мажордомша Эльмира, пробираясь между тонкошерстных костюмов и мундиров.
Глава Нации выглянул на балкон. Дворцовые псы, приведенные капралом из охраны Дворца, отправляли свои нужды вокруг фонтана парка.
У собак ведь нет души. Нет ни одной души. И похоронная контора без музыки… С самым мрачным видом он обернулся к присутствующим: «Всеобщая забастовка, не так ли? И вы ничего не знали?» Все сразу заговорили, перебивая друг друга, забурлил мутный поток путаных слов, рассчитанных на то, чтобы дать объяснения, разъяснения, самооправдания: «Вспомните, я говорил», «Не забыли, я предупреждал», «Помните, на последнем заседании Совета министров я…» Однако убедительно, убеждающе это не звучало.
До сих пор лишь в провинции — в Нуэва Кордобе, в портах — вспыхивали настоящие забастовки, здесь же стачки, называвшиеся забастовками, не имели сколь-нибудь серьезных последствий; на днях, действительно, распространялись какие-то бумажки, листовки, подпольные листки; кроме того, еще Студент предсказывал забастовки пеонов, грузчиков, шоферов грузовых машин и т. д., и все мы были убеждены, что торговцы, служащие магазинов, люди, принадлежавшие к средним классам, никогда не обратят внимания на призывы и лозунги Студента: люди порядка и служебного долга не считали себя входящими в пресловутую категорию «Пролетарии всех стран», поскольку никто не мыслил себя пролетарием; а я отсутствовал в столице; а я должен был увозить семью в Бельямар, а я не мог представить себе, и все же мне рассказывала моя дочь (к черту, кому важно, что тебе рассказывала твоя дочь!..); кроме того, никогда, никогда, никогда в истории Континента не видывали забастовку белых воротничков с галстуками; все бесчинства — дело злоумышленников, и не будем поддаваться разным слухам; моя дочь мне сказала, что монахини Тарба… (да иди ты ко всем чертям с твоей дочерью!..); я всегда говорил, что кампания слухов насчет якобы возникших эпидемий, насчет деревянного коня в воде, все эти угрозы смерти, посланные по» почте черепа… в общем, я всегда говорил, что…