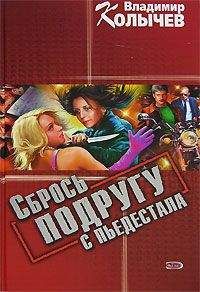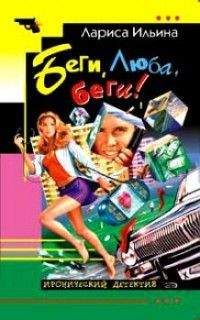Артур Филлипс - Прага
Двое мужчин садятся на деревянную скамью напротив современных отелей, заменивших «Венгрию», «Карлтон» и «Бристоль» (разбомбленные в щебень), и смотрят на проходящих девушек и на ужимки скудно одаренных уличных карикатуристов, чьи небрежные шаржи на кинозвезд кажутся у всех одинаковыми: заячьи зубы, катящиеся волнами челюстные мышцы, крохотные лилипутские ножки. Тодд улыбается двум женщинам, под ручку шагающим мимо.
— Видно по одежде, — говорит он. — Фокус в том, чтобы найти западноевропейскую или американскую туристку. С этими вступать в отношения можно. И для них ты экзотика, потому что живешь здесь, но не венгр и, значит, не чересчур экзотика. — Тодд поерзал. — Так вот, после сражений вроде Вердена гибли целые деревни английских парней — до единого. Они вместе записывались, вместе проходили подготовку, вместе ехали с полком на Сомму, вместе барахтались в грязи, и — бум. Не повезло. И теперь в деревне нет мужчин между восемнадцатью и сорока. За секунду. Каждый сын, жених, брат, понимаешь? Бум.
Джону приятно, что он все-таки победил, приятно слышать, как солдат признает бесполезность войны. Теперь он сможет объяснить Эмили свой принципиальный отказ от службы. Джон вынимает блокнот, а Тодд продолжает:
— Кто придумал такую политику? Начинаешь искренне удивляться этим англичанам, понимаешь? Хоа, не пиши это! — Тодд пальцами отбивает маршевый ритм на деревянных планках скамейки. — Но в самом деле, они будто хотели настроить людей против войны. И меня всегда удивляло, что в первую войну не было особого протеста. Понятно, что их поташнивало впутываться во вторую.
— Ну ладно, — гнет свое Джон, а Тодд барабанит уже по собственной ноге. — Ну и как ты можешь не задумываться, за что стоит драться? Те парни из одной деревни. Они все в один день умерли ни за что. Верден ведь был, в общем, ничьей, верно? Шестьсот тысяч напрасных смертей. Как ты можешь, зная всю эту историю, все равно записываться в морской корпус?
Тодд улыбается Джону безмятежной улыбкой, отечески забавляясь:
— Они умерли не напрасно. Я этого не говорил. Они погибли в одной небольшой операции посреди ничьей, которая и немецкую армию распотрошила дай бог. Если бы они не были там и не дрались, это, возможно, была бы не ничья.
— Но кому какое дело? Умереть в двадцать четыре от, от… горчичного газа? Под началом генерала, который ведет окопную войну, потому что его этому научили двадцать лет назад? Видал вон ту? Точно не венгерка. Но умереть в двадцать четыре: ни жены, ни старости, ни детей. И ради чего? Кому это надо? Первая мировая война — это же какая-то шутка истории: никто не знает, зачем она велась. Это положительно какое-то средневековье.
Тодд вежливо слушает, но отвечает с некоторым жаром:
— Это не его точка зрения, не того английского парня. Это твоя, и у тебя нет на нее никакого права. Ты сидишь, ешь пиццу и ведешь себя так, будто мои ребята должны принимать решения исходя из того, что будут думать о них такие, как ты, через семьдесят пять лет. Это вот так люди должны думать? Ты не знаешь, за что дрались те английские парни; они все были индивидуальные личности. Конечно, тебе просто говорить, что Первая мировая была шуткой. Ты не бельгиец. Немцы не разоряли твою ферму. Не насиловали твою сестру. Назови любую войну, какую хочешь. В любой и в каждой войне — в тот момент у кого-то есть, черт подери, серьезная причина, и объясняться перед тобой никто не обязан. Я скажу тебе, что я знаю, Джон, и можешь это напечатать или написать про это в своей хитрожопой колонке. А? Ты готов? Вот что: никакой «всеобщей схемы вещей» не существует. Это просто сраная отговорка для ссыкунов. У настоящего нет никакого права судить прошлое. Или поступать так, чтобы одобрило будущее. Когда враг на пороге, ни то, ни другое не имеет значения. Вот поэтому я морпех. Оба-на, а вон та? Думаешь, она венгерка? Подожди пять сек!
Морпех рысит к облокотившейся на парапет молодой блондинке с сигаретой — девчонка стоит, зацепив одну голую лодыжку за другую под черными брюками-капри. Джон наблюдает за их разговором, неслышимым на таком расстоянии, видит, как девушка кивает, пускает дым в сторону от Тодда и перекладывает сигарету в левую руку, чтобы протянуть Тодду правую. Проходит несколько минут, прежде чем сержант возвращается к Джону; девушка ждет.
— Хорошо с тобой поболтать, мужик. Заметь: девчонка — бельгийка. Как тебе? С разрешенными нациями я с удовольствием вступаю в отношения.
Тодд жмет Джону руку и возвращается к своей фламандской доярке, предлагает ей руку, спасает от вторжения бошей, ведет ее по набережной и исчезает за маскировочной завесой из туристов, карикатуристов, уличных музыкантов.
V
Надя протягивает старинную руку, затем целует Эмили в обе щеки.
— Знаменитая мисс Оливер! Я так много наслышана о вашем очаровании.
В Надином хриплом голосе сквозит лукавство, и это беспокоит Джона.
Он пригласил Эмили сюда, чтобы она увидела, какую утонченную (более осмысленную, более настоящую, более европейскую, более занятую, более какую угодно) жизнь он ведет в отсутствие их общих друзей. Он пригласил Эмили, чтобы Надя оценила ее для него; либо излечила от тоски, либо сказала, как Эмили завоевать. Он хотел, чтобы Эмили сидела рядом, когда Надя подымет их обоих высоко в воздух, и так они будут сидеть вдвоем на старухиной ладони, голова к голове, подметая волосами потолок, и она увидит из того же выгодного ракурса то, что видел он, и весь порядок вещей будет ясен.
Вместо этого уже через несколько минут стерильной брызгучей болтовни ни о чем Джон отчаивается: у немощной старухи-пианистки не хватит сил удержать двоих; сегодня она слишком слаба, она и одного Джона не поднимет. Джона берет досада на то, что он сидит в каком-то дрянном джаз-баре между надоедливой старухой и девушкой, которая терпит его присутствие только из своей среднеамериканской вежливости. Ожидая, что Надя признает Эмили идеальной, ожидая, что Эмили признает Надю значительной, он сам признаёт их обеих невыносимыми. Он вызывается сходить за напитками и, осушив в баре, невидимый для них, первые два «уникума», не торопится возвращаться.
Когда он возвращается, женщины обсуждают его свежую колонку, как раз о Наде.
— Милый Джон Прайс, — говорит та и похлопывает его по руке, благодаря за «Роб Рой». — По-моему, ты меня сделал слишком занимательной, но это такая мелкая придирка, да? Гораздо лучше быть слишком импозантной, чем слишком глупой, так? — Она улыбается Эмили. — Твоя подруга сейчас объявила, что работает кем-то в услужении у вашего посла.
— Ну, если точно, не в услужении.
— Тогда, если точно, где?
Надя звякает своим бокалом о бокал Эмили, и ее губы круто выгибаются — кажется, она вот-вот расхохочется.
— Ну, я составляю его расписание, конечно, выполняю какие-то мелкие поручения.
— Милая моя, зачем на таких делах у них такая милая девушка?
— Я внимательный к деталям человек. Я…
— О, дайте мне посоображать минутку: вы встречаетесь со столькими разными очаровательными людьми, и они поражаются, что служанка посла — такая обаятельная и осведомленная девушка. И эти очаровательные люди все время раскрывают вам свое сердце.
— Я, кажется, умею слушать. Да, думаю, умею. И я иногда сталкиваюсь с интересными людьми, но вообще-то на мне скорее расстановка стульев перед обедом.
— Ты это слышишь, Джон Прайс? — И Надя все-таки хохочет, и наклоняется, чтобы дотронуться до его руки, как будто они вместе пошутили. — Это восхитительно.
Джон не узнает ни одной реплики из своего сценария вечера, подозревает, что Надя, видимо, уже пьяна.
Эмили спрашивает Надю, где та училась играть на фортепиано.
— Если хотите, дорогая, можем поговорить и обо мне, но толку не будет. Хорошо: я, по большей части, самоучка, слушала пластинки, слушала других. Правда… — Джон наклоняется чуть ближе, надеясь, что это «правда» — сигнал: Надя набирает силу. — Правда, у меня был один учитель, когда я была девочкой, здесь, в Будапеште, и он был интересный человек… — Джон глубоко дышит, узнавая торжественный момент, когда отворяются древние врата, и за ними медленно открываются великолепные сады. Он выжидающе смотрит на Надю, потом на Эмили, опять на Надю, он как-то понимает, что стал косвенным предметом разговора, который оправдает его в глазах всех. — Он был выдающийся человек, Конрад. Мне было десять, а ему, наверное, тридцать три, когда он начал учить меня играть гаммы, правильно держать руки, читать ноты. Он был изысканный человек, у которого было трудное время с деньгами в годы после Первой мировой войны. Это был, кажется, 1925-й. Он был шпионом, понимаете, в Первую мировую. — Она улыбается Эмили, ждет реплики, но все молчат. — Как молодой студент-пианист, он жил во Франции, когда началась война. Он предлагал свои услуги как учитель детей, описывал себя их родителям как беженца от злодеев Габсбургов, выдумывал какую-то историю о конфискованных родовых землях, дурном обращении в плену у завистливых соперников, будто он не собирается возвращаться, пока его земли не освободят, и всё так дальше. И по чистейшему совпадению, как вы можете представить, мисс Оливер, папы этих детей имели обыкновение оказываться французскими военными и государственными мужами. Молодой венгерский пижон, слегка богемного типа, этакий Шопен, но притом, казалось, с хорошим воспитанием и деньгами. Они быстро к нему привязывались, родители. И конечно, люди обычно имеют склонность рекомендовать хороших слуг друзьям, тоже военным и правительственным, конечно.