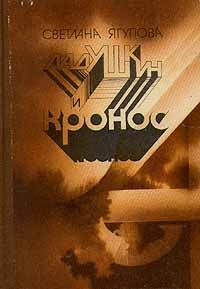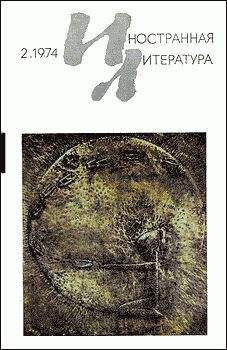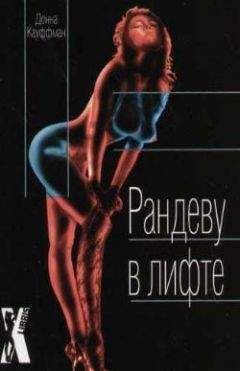Мартин Вальзер - Браки во Филиппсбурге
Я уселся так, чтобы господин Маутузиус меня обязательно увидел. Зал был полон именитых господ. Но два-три ряда занимали простые служащие.
Они сидели выпрямившись, не то что тучные господа, вытягивали головы, и лица их выражали внимание и заинтересованность. Видимо, они тоже вовсю усердствовали, чтобы их шефы это заметили. Время от времени в зал проходили модно разодетые господа — шефы-юниоры! Ключами от своих машин они, пока не усаживались на место, вертели и крутили у жилетных карманов. Каждый делал вид, что не находит сразу кармашка, что не в состоянии сосредоточиться на ключах от машины, так как приходится вертеть туда-сюда головой, здороваться со всеми сидящими в зале милыми друзьями и знакомыми.
Трибуна оратора возвышалась на помосте, с двух сторон ее охраняли два стола, за которыми восседали важные господа, у всех почти красно-налитые физиономии, и у многих к тому же белые бороды.
Чуть позже в двери зала энергично вошел мой шеф и прямехонько прошагал вперед. В первых рядах его приход вызвал приветственное волнение. Это заметили на помосте. В точно уловленный миг из-за стола поднялся какой-то господин, подошел к трибуне и сильно затряс колокольчиком. Он приветствовал докладчика. Приветствовал собравшихся. После чего произнес даже мне хорошо знакомую формулу:
— Сегодня мы с особенной радостью…
Пока произносилась приветственная речь, я наблюдал за шефом, Он начисто позабыл о своих знакомых в первых рядах и целиком сосредоточился на выступавшем. Поза его выражала жадное внимание. Подбородок был высоко вздернут над шеей (а это что-нибудь да значило при его шее, которой, собственно, и не было вовсе) и направлен к трибуне. Создавалось впечатление, что он хочет подать залу пример, с каким благоговением следует слушать оратора. В его позе читалась рекомендация присутствующим, чтобы и они потом, когда он возьмет слово, изобразили столь же умопомрачительное внимание. И так как выступающий в своем приветствии на все лады восхвалял моего шефа, ничего удивительного (или все-таки!), что тот, присоединившись к общим аплодисментам, которыми по традиции наградили вступительное слово, хлопал изо всех сил, показывая всему залу, каково его представление об одобрительной овации. А потом взошел на помост. Внимательно оглядел зал. Положил руки на край трибуны чуть ли не благословляющим жестом. Отступил назад, так что руки вытянулись в струнку. И тогда в зале вновь воцарилась тишина. Но Маутузиус еще долго не начинал говорить. Он выжидал, пока наступит поистине гробовая тишина. Он, видимо, прекрасно знал, что полнейшая тишина может перерасти в тишину гробовую. Тишину, что грозила вот-вот расколоться и перейти в беззвучное грохотанье, вот тогда он и заговорил. Как умно выбрал он момент для начала! Его первое слово всем принесло великое облегчение.
— «Час испытания пробил» — такова тема моего доклада.
И он опять выждал, пока не воцарится тишина, но пауза была не слишком долгой. Теперь суровые слова хлестали вконец оцепеневших слушателей. Слова, что, точно порывы урагана, увлекают за собой каменные глыбы. Слушатели почитали себя счастливчиками, им повезло, слова эти нацелены были не на них, а на врагов его партии.
Я с удовлетворением констатировал, что шеф, когда вызвал меня к себе в кабинет, все-таки тренировался на мне. Но видимо, он тренировался еще и ночи напролет — все его движения и жесты, которые он всякий раз проделывал передо мной, сейчас, в зале, отличались артистическим совершенством. Все боеспособные части его тела функционировали на диво слаженно. У слушателей складывалось впечатление, что человек этот способен глубоко страдать, наблюдая мрачные явления нашего времени. Когда он говорил о «нашем тяжком времени», плечи его так жалостно опадали, что хотелось вскочить и поддержать его. Но когда он затем — а делал он это после каждого отрицательного тезиса — пускал в ход утешения, тогда легкие его наполнялись воздухом, грудь раздувалась, так что слушатели опасались за жилетку, утешение, утешение исходило от всей его фигуры, надежда положительно приподнимала его над землей, и не держись он — тем самым целиком и полностью признавая себя поборником земных дел, — не держись он за деревянные борта трибуны, так, может, и упорхнул бы от нас в заоблачные дали. Вскорости он уже наголову разбил всех врагов своею речью и в то же время неопровержимо показал, что о нашем благе в силах позаботиться только его партия. Видимо, те присутствующие, кто еще не вступил в его партию, жестоко укоряли себя в эту минуту. И я тоже. Но мы еще не знали финала. Он начался с того, что оратор призвал нас «внутренне вооружиться»! Ныне — и выражение его лица стало устрашающим — повсюду идет «жесточайшая борьба». Я так был увлечен, что не понял в эту минуту, кто и с кем ведет «жесточайшую борьбу», я и впоследствии, размышляя над этим выражением, не сумел постичь его истинного смысла, но, что при этом имелось в виду и оружие, кажется мне фактом несомненным. В этом предположении меня утверждает та фраза заключительной части, которую я запомнил слово в слово: «Безжалостная борьба с помощью духовного оружия, вдохновляемая всемогуществом любви, принесет победу нашим знаменам». У меня, когда я услышал эту фразу, началось сердцебиение. Заключительные слова речи мой шеф выпаливал в нас, воздев руки к небу. Они поднимались все выше и выше, и непонятно было, почему это он стал такого огромного роста (теперь, задним числом, я предполагаю, что до того он медленно и незаметно сжимался), и вместе с ним вознеслась куда-то вверх, к каким-то недостижимым вершинам (слишком скромное обозначение для подобной высоты), его речь, после чего руки его бессильно упали и настала великая тишина.
Спустя минуту-другую разразилась овация. Шеф, изогнувшись, замер у трибуны, давая нам понять, что вынужденно терпит наше неистовое одобрение. Когда он случайно бросил взгляд на меня, я тоже броском вытянул к нему бешено аплодирующие руки. Покидая зал, я чувствовал, что у меня пылают ладони. Уже в дверях я увидел господина Биркеля: он ворвался на помост, вскочил одной своей ногой на стул и со сверкающими слезами на лице хлопал огромными лапищами, четко отбивая такт. Губы Биркеля с жуткой быстротой дергались, рот открывался и закрывался, каждый раз изрыгая оглушительное «браво». Подобный трюк мне в жизни бы не удался.
Время подходит уже к середине января. Рождественские и новогодние послания бесповоротно забыты. И куда только пропадают все эти миллионы газет? Через два, через три дня после выхода ни одну не найдешь.
Советская Армия уже носит зимнюю форму. Меховые шапки…
Хильдегард пришла сегодня домой раньше меня. Она встретила меня с письмом моего отца в руках и тотчас стала рьяно читать мне его вслух (делая ударения, какие бывают у плохих актрис). Господин член земельного суда мной недоволен. Это я знал. Зачем он опять пишет мне, он же махнул рукой на меня. Отцовское сердце! Я ничем не могу ему помочь. К тому, что он назвал бы «профессией», у меня нет ни склонности, ни сил. Должен же я думать о семье. (Хильдегард, читая эту строчку, резко усилила голос.) Да, за то, что я женился, меня можно упрекнуть. Этого я не имел права делать. Но я надеялся, что брак разбудит во мне охоту пробивать себе дорогу, сознание ответственности, вообще радость жизни. Разве не говорил каждый, кто меня знал: все образуется, стоит вам жениться. Хильдегард работала в книжном магазине, где мне разрешалось просматривать журналы и книги, не покупая их. Кроме Хильдегард, я никаких девушек не знал. Вот я и женился на Хильдегард. Она считала меня писателем с большим будущим. Мы оба были разочарованы. Я не стал большим писателем, а ей не удалось пробудить во мне интерес к преуспеянию.
Хильдегард, прочитав письмо, сказала:
— В этой комнате мы вечно оставаться не можем.
Я пожал плечами. Комната наша расположена на третьем этаже, но третий этаж в домах на этой улице — это, скорее, чердак. По существу, на нашей улице и домов-то нет (с каким бы удовольствием ни говорила госпожа Фербер о своем «доме»). Вся улица — это один-единственный дом. В нашу комнату попадаешь через вход номер двадцать два. Раз у меня теперь есть постоянное место, мы могли бы, считает Хильдегард, поискать себе настоящую квартиру. Меня, напомнил я ей, взяли с испытательным сроком на один сезон. Больше я не сказал ни слова. Она попыталась завести разговор о нашем браке. Люблю ли я ее? Я сказал: да. Жалею я, что женился на ней? Я сказал: нет. И так далее. Я не смею сказать ей, что я сам в себе разочарован куда больше, чем в ней. Любить, интересоваться другим человеком в той же мере, как и собой, не в моих силах. Иной раз я представляю себе, как прекрасно было бы, если бы я стал человеком, который хочет «преуспеть», который хочет «любить» свою жену, хочет иметь детей и целиком поглощен своей семьей. Но я не смею поддаваться подобному желанию. Это желание — стать кем-то другим. Если я дам поглотить себя этому желанию, я должен буду распрощаться с жизнью, ибо у меня нет сил стать другим человеком. Значит, желание стать другим — это соблазн покончить с собой…