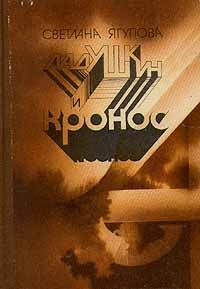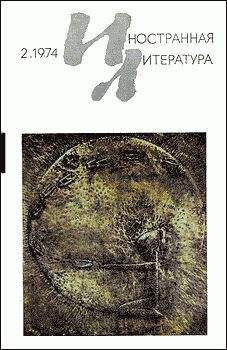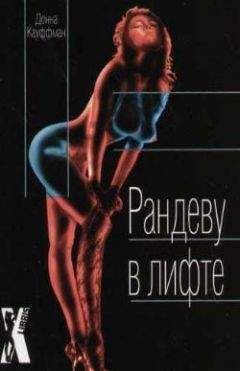Мартин Вальзер - Браки во Филиппсбурге
IV. С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ НА ОДИН СЕЗОН
1Госпожа Фербер пригрозила господину Клаффу, что незамедлительно откажет ему от квартиры, но господин Клафф остался неумолим, он свою комнату будет сам убирать; он просто-напросто запретил госпоже Фербер даже переступать порог его комнаты, пока он платит ей за квартиру; ни угроза отказать ему от квартиры, ни обещание, что она об этом сию же минуту поговорит с мужем и уж он-то выведет господина Клаффа на чистую воду, ни это обещание, ни намек, что у нее есть связи с полицией, не произвели на господина Клаффа впечатления; что же это за жилец для госпожи Фербер, если она не смеет войти в его комнату, если она не смеет прикасаться к его бумагам, фотографиям, его книгам и костюмам, если она ничегошеньки о нем больше не узнает, зачем вообще тогда жилец, тогда она с равным успехом может сдавать свои комнаты под склады или чуланы! И разве не жутковато, что человек, который живет в твоем доме, ни с кем словечка не скажет!
И все опасения госпожи Фербер, которыми она делилась налево и направо, подтвердились, о, действительность даже превзошла все ожидания. Кем же оказался господин Клафф? Самоубийцей. Да-да. Зима еще не успела кончиться, еще шел дождь пополам со снегом, а господин Бойман, лучший из всех на свете жильцов, получил письмо от господина Клаффа, который просил Боймана поступить с бумагами и книгами, какие останутся после него, по своему усмотрению; кроме них, у него ничего не было. Когда это письмо попадет в руки Бойману, для него, Клаффа, все будет уже кончено. Пусть же господин Бойман, которого он считает своим единственным знакомым, поднимется наверх, когда увезут останки Клаффа. Бойман уведомил госпожу Фербер о письме. Но не посмел проводить ее наверх. Прибыла машина, господина Клаффа увезли. Бойман попросил перенести все его книги и бумаги в свою комнату. А госпожа Фербер взяла в полиции отпуск на три дня, она хочет-де как следует вымыть и вычистить комнату Клаффа.
Всю уйму книг Бойман аккуратными стопками сложил по углам комнаты. Затем из большого конверта вынул три тетради в клеенчатой обложке, исписанные неразборчивым почерком, — почерком, в котором крошечные буковки как бы вылезали одна из другой; писавший, видимо, низко склонялся над бумагой, читающему приходилось делать то же самое.
Последняя, судя по дате, тетрадь была озаглавлена: «С испытательным сроком на один сезон». Ганс раскрыл ее. Но прежде, чем он начал читать, он подошел к двери и проверил, заперта ли она.
Я стал привратником Филиппсбургского государственного театра. Мой шеф — директор Филиппсбургского государственного театра Иозеф Маутузиус, почетный доктор. Меня взяли на один сезон. С испытательным сроком, сказал мой шеф. Когда я ввожу к шефу знаменитого артиста, мой шеф говорит, что мечтал об этой минуте уже много-много лет, с той именно минуты, когда впервые услышал о великом мастере. Мои шеф говорит: маэстро. При этом он широко раскидывает руки и, пожимая правой рукой правую руку великого артиста, левой сердечно обнимает его за плечи. В то же время он держит под строгим надзором свое лицо: все оно, вплоть до ушей, выражает переизбыток восторженных чувств. Думаю, он втайне упражняет уши, чтобы в будущем они принимали участие в восторженном приветствии, чтобы он мог помахивать ими. Первые признаки этого я заметил сегодня, когда проводил к нему председателя земельного отделения христианской партии. Кстати говоря, он должен быть близким другом шефа (см. «Строение тела и характер»).[31]
Меня, понятно, снабдили точнейшими инструкциями, каким гостям мне следует только называть сквозь окошечко привратницкой номер комнаты и каких провожать наверх. Выходить из привратницкой, что у служебного входа в театр, я не люблю, просто не знаю, о чем говорить с этими одышливыми господами по дороге от входных дверей до кабинета шефа. Лифта в этом колоссальном здании нет. Оно построено сто лет назад честолюбивыми филиппсбургскими князьями. И хотя князья эти — старинного рода, но даже Наполеон не сделал их королями. Для потомков князей в театре и по сей день зарезервирована семейная ложа. Два-три раза в году ее занимают изящные, небольшого роста люди. Чаще всего пожилые барышни, хлипкие существа, до которых все происходящее на сцене едва-едва доносят огромные слуховые аппараты и бинокли.
Да о чем говорить мне с этими элегантно одетыми господами, пока я провожаю их по нескончаемо длинной лестнице? И вообще, разве они ждут, что я буду о чем-то с ними говорить? Для небрежно брошенных обыденных замечаний путь наш слишком долог, подобные замечания не требуют ответа, стало быть, не завязывают разговора; к тому же я боюсь наскучить этим приехавшим издалека господам пустопорожней болтовней или, того более, обеспокоить их. А чтобы подготовить почву для серьезного разговора, путь наш слишком короток. Вполне возможно, что кое-кто из этих господ не удержался, чтобы не отозваться отрицательно обо мне, войдя к моему шефу. К сожалению, я теперь хорошо знаю его мнение о себе и потому понимаю, как ему на руку все то, что наговаривают на меня. Не следует считать, что я себя переоцениваю, что у директора будто бы и времени нет думать о привратнике у театрального подъезда, ни к чему возражать — у директора, мол, совсем иные задачи! У него, может быть, они есть — я того не знаю, — но он их откладывает. Ему куда важнее моя персона. В конце-то концов, я единственный служащий театра, которого взяли, пожалуй, даже против его желания. Он был против потому, что мне нет еще тридцати лет, и потому, что потерей левой ноги я обязан всего-навсего трамваю. Наш директор всецело за то, чтобы у него был одноногий привратник, но он хотел бы, чтобы вторую ногу ему оторвало гранатой, и хорошо бы в местах прославленных: под Сталинградом, Тобруком или Нарвиком; быть может, он удовольствовался бы Одессой или Дюнкерком, но я мог назвать ему всего-навсего трамвайную остановку Бебельштрассе (вдобавок еще и Бебельштрассе!), в мое дело замешана не граната, а всего-навсего устаревший трамвайный вагон. Мне бы попытаться доказать господину Маутузиусу, что вагон этот давно сняли бы с эксплуатации, если бы война не… и так далее, что и я, стало быть, жертва войны, так как отказал древний тормоз!
Но я не гожусь для подобного рода доказательств. Я рад, что это не граната, а трамвай, осторожный старенький трамвай, который очень медленно проехал по моему колену, так, словно бы хотел меня пощадить. Шеф никак не может мне этого простить. Он требует от своих подчиненных совсем другого прошлого. Не зря же он в любое время года носит высокие черные шнурованные сапоги и едва ли не ежедневно повторяет, что Германия — это сердце Европы. Отечество начинается у письменного стола, говорит он, и его синюшно-красные руки поигрывают золотой цепочкой, бегущей поперек живота. Руки эти часто шелушатся, и тогда кожа тыльной стороны становится блеклой и покрывается крапинками.
Я не имею права высказать своему шефу, что я о нем думаю. А я частенько раздумываю о нем, когда сижу у входа и жду гостей. Но я труслив. Да-да, я трус. А ну, выведу-ка я это слово. Четыре буквы на бумаге. Я — трус. Никому не смею я сказать, что я о нем думаю. Ногу я потерял, попав под жестяной вагон, поэтому я и в глазах моего шефа трус. Но если бы он только знал, какого типа я трус, то он, верно, даже не понял бы, в чем дело, а если бы… он вышвырнул бы меня собственными руками. И горе производственному совету, если бы он попробовал вмешаться! Но совет этого и не сделает. Совет знает, сколь многим он обязан нашему шефу. Наверно, меня одолевают ребяческие желания, но что поделаешь, мне хотелось бы средь бела дня покинуть привратницкую, вломиться в кабинет шефа и высказать наконец-то очередному гостю, развалившемуся в кресле, всю правду о нашей лавочке. Гость, конечно, не пожелает и минуты слушать меня, но втайне будет всю жизнь вспоминать миг, когда незаслуженно и внезапно был озарен истиной. Но истина ли это? Наверняка нет. Я не люблю моего шефа. Что общего имеют мои слова с истиной? Нет человека более далекого-от истины, чем тот, кто ненавидит. Вот, пожалуйста, звучит как цитата.
Хильдегард спит. Она не понимает, отчего я так долго сижу за столом. Прежде чем заснуть, она, лежа в постели, смотрела на меня. Я взял карандаш и сделал вид, будто мне нужно что-то важное записать. Но я лишь рисовал отдельные слова (чтобы спастить от нее, я не хотел больше с ней разговаривать, не хотел больше лгать). Я рисовал мокрую улицу, черным-черную, и боязливо мерцающий фонарь, стройку, ночь; повсюду в квартирах жизнь течет своим чередом, трагические разлады в каждой комнате. Но все продолжают жить вместе, и газовщик считает, что живут в этих комнатах единые семьи. Комары дохнут от людей, люди дохнут от комаров, «цифры о том свидетельствуют…»!
Слава Богу, Хильдегард спит. Она любит поговорить. Читает книги и верит, что самый большой праздник — воскресное утро. Полагает, что можно делиться самым сокровенным. И не подозревает, что я никогда не говорю ей, что думаю. Если бы я ей все сказал, наш брак тут же распался бы. Я — не газовщик. Тот снимает показания счетчика и говорит: эта семья живет хорошо. «Цифры о том свидетельствуют». Когда мы с Хильдегард разговариваем, мы включаем радио на полную мощность. У Ферберов нет денег, чтобы возвести толстые стены. Самое лучшее, если передают музыку. Когда же передают всякие разговоры, у меня начинается сердцебиение. Сегодня мы настроили приемник на Рим. И обменялись двумя-тремя словами под прикрытием прекрасной итальянской речи. Но внезапно плавная речь прервалась: Молотов, Эйзенхауэр, Тито, Джон Фостер Даллес. Тут уж и итальянский не поможет. Я не выдерживаю в постели у Хильдегард, когда в комнату врываются эти имена.